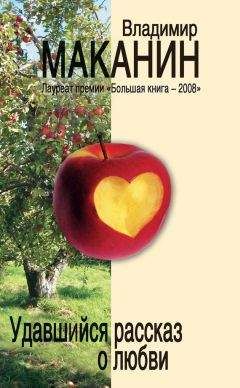– Какая ж у меня девонька, братцы!.. Раньше рекорд был восемь страниц, сейчас по одиннадцать с половиной пишет. Моя ты труженица! – Вот тут он и объявил, что он и Лида подали заявление в загс (радостное сообщение). Он выждал этакую солидную, полновесную минуту, затем объявил.
– Ура! – сказал я. Мы поцеловались, трепали его за макушку, за уши, говорили: «Ах ты, черт старый!» Дымный воздух жилья Лапина будто напружинился. Так всегда бывало от сообщаемого факта. Лапин сказал:
– Комнату снимать думаешь? Где жить будете?
– Не знаю.
Но мы не верили: Рукавицын был расчетлив.
– Не у тебя ж в общежитии. А если у Лиды? У них же квартира. Небось уже книжки свои у них расставил, а?
– Может, и так, – Рукавицын держался раскованно, как человек, который знает, что его «я» все равно немного загадка.
Рукавицын, разумеется, никаким испанцем не был. Выдумал он это лет в четырнадцать, но все еще иной раз дурачился ради девчонок – они любили его за такие глупости, у него получалось. «Где ваш такт, где воспитание ваше?..» – поучал он на улице какую-нибудь девчушку. В будущем мне привелось знать еще одного испанца, и он тоже оказался фальшивым – он тоже любил одеваться с иголочки и тоже приобрел американскую машину, правда более роскошную. Однако наш Рукавицын был поумнее, не сорвался.
– Все же интересно, какой тещей окажется Анна Игнатьевна? Как думаешь?
– А пусть она сама думает! – Рукавицын будто бы прикрылся от нашего любопытства. Он сказал, что вообще не хочет думать о грустной толчее детских лет, – он закурил, еще раз сплюнул в угол. На косой параллельности солнечных лучей заплясал сигаретный дым, и мы помолчали немного, как бы дали пролететь теням давно умерших. Живым теням, которые нас любили. «Марина звонила», – протолкнул Рукавицын разговор дальше.
День так и отметился в памяти как день, когда от нас «уходил» Рукавицын. И это уходил уже второй (первым «ушел» Бышев), и ему повезло, потому что день был с солнцем и очень запоминающийся (день с сигаретным дымом на косых параллелях лучей). И, видно, день был действительно отмеченный, потому что в этот самый день Лапин сообщил, что с Сереженькой обошлось: милиция его больше не трогала, простили. Мы стали спрашивать, как и что.
– Обошлось, – Лапин неопределенно пожал плечами. Он был невесел, потому что состояние Сереженьки было все равно неважное. Мы это знали. Сереженька был как-то безжизнен и прибит после пережитого. Он кое-как числился на первом курсе, был слишком тих и ко всему безучастен. Если мы приходили к нему, звали куда-то, он говорил: «Нет», – и опять на все остальное, на любое – «Нет, нет», – и говорил безликим, тихим голосом. И даже в том, как он сидел, скажем, за тарелкой супа, уставившись в точку и не поднимая глаз, чувствовалась подавленность.
– Обошлось, ребятки, и прекрасно, что обошлось!.. Смотри, как совпали дни! – и Рукавицын (полуголый, после душа) с этакой мистической радостью рубил ладонью косые параллели желтых лучей.
А спор возник о том, где лучше быть Сереженьке в его теперешнем состоянии. Две краски смешались: тень Сереженькиной беды и веселая краска «уходящего» Рукавицына, – это дало некий третий, неровный оттенок разговору. Именно оттенок. А спора, может быть, и не было. Лапин хотел взять Сереженьку к себе или опять к той тихой старушке (то есть никакого ученья, никакого университета, пусть отдышится).
– Зачем? – так и вскинулся Рукавицын. – Зачем?
– Лучше будет.
– Ты, значит, обжегся? А теперь даже на воду дуть будешь?
Я поддержал Рукавицына:
– Дай пожить Сереженьке. Дай ему, Юра, пожить самому. Иначе он никогда не научится.
Мы жили одновременно и в своих общежитиях, и у Лапина – большей частью (по времени) у Лапина. Так оно шло. Но, живя у Лапина, мы «пробовали» свою жизнь, постепенно отходя от него. А Сереженька не уживался нигде. Ни зацепки не имел, ни хоть средненького контакта. И понятно, что особенно Рукавицын, готовый к «уходу», очень остро чувствовал, что нельзя Сереженьке замыкаться в каких-то тихих стенах.
– Пойми! – горячился Рукавицын. – И ради бога, не давай ты ему никаких старушек, добрых и душевных. Самому дай пожить.
В отличие от Лапина, я тоже был уверен, что не надо Сереженьку забирать из университетского шума так сразу. Почему мы должны бояться срыва? или какой-то беды?.. И кто же это знает, где лучше и целительней человеку? Тихая и монотонная жизнь – это да, это понятно. Но энергичная, студенческая, аккуратная (и только лишь с виду шумная) среда – тут ведь тоже плюсы. Я старательно объяснял:
– Именно так, Юра… Именно так.
Я объяснял. – Рукавицын же будто взорвался, магия слова «свобода» на него действовала безотказно.
– Тихий курс, тихие ребята, заняты наукой. Где ты лучше найдешь для Сереженьки теплицу? – наседал Рукавицын с жаром. – Это же парник. И в придачу ощущение свободы! – Рукавицын уже кричал. Он тут же и приврал, и сам уже в это беспредельно верил: сказал, что он решил уходить от Лапина якобы лишь потому, что однажды где-то там в суете Савеловского вокзала испытал вдруг ощущение свободы, – из-за ощущения этого он и уходит теперь…
– Не тот твой случай, – говорил Лапин. – Совсем не тот.
Мы наседали:
– Юра!.. Всякий случай не тот. Потому он и случай!
– И ведь Сереженька значительно моложе всех нас. А значит, живучей!
– Не тот случай, – Лапин говорил о психологических срывах Сереженьки. Лапин защищал свое чутье, свой профессионализм, а мы как бы стояли на стороне здравого смысла. Ни он, ни мы не оказались правы, не угадали дальнейшего, потому что Сереженька умер, и уже нечего было угадывать и спорить. И может быть, именно поэтому ярко и явственно стоит в моей памяти тот спор и тот день.
Пришла Марина. Она пришла прямо с работы, принесла этакую взбудораженность, оживление большого магазина, ну и десятка три дешевых яиц. Она наказывала суетливо и радостно: «Только цыплят не разводите. Ешьте их быстренько: дешевка!..» Когда она целовалась, изо рта у нее так и несло шоколадом. Выглядела она свежо и броско, поправилась, что ли.
– Все обошлось?.. С Сереженькой? – она смотрела на нас, рот раскрыла, не верила. В красном платье, она стояла посреди комнаты, все еще подрагивающая после быстрого московского шага. Рукавицын кричал свое, я доказывал, а Лапин морщился. Марина переводила глаза с одного на другого.
– И какой же восторг был, когда я хоть вполовину ощутил, что такое свобода!.. И где? На вонючем Савеловском вокзале! – кричал Рукавицын.
Чувствовалось, что Лапин сдается, – мы если не переубедили, то переговорили его.
– Ладно. Пусть пока учится… Ладно. А там посмотрим, – говорил Лапин.
– Восторг был! – захлебывался своим радостным чувством Рукавицын. – Именно восторг, ребята! Радости, глупости хотелось. Я бы бросился с моста, я просто не знал, как это делается!
Вот на этом своем восторге Рукавицын и запомнился мне больше всего. С этим восторгом он и оторвался от нас. Заходил он к нам уже редко… Жаль, если память не вполне сохранила мне его, какой он был. С его пустенькой (он говорил «великолепной») любовью к городскому шику и с его воистину великолепной энергией, не убиваемой ни бедой, ни голодом.
Как-то он вдруг вступил в переписку с некоей театральной организацией. Эта организация разыскивала сундук с вещами Немировича-Данченко. Дело было такое. При отступлении, при эвакуации, на какой-то дороге нас, детдомовцев, попросили понести «сундучок из музея». Сундучок пропал, мы проели его. И вот теперь разыскали Рукавицына. То есть он сам вступил с ними в переписку на их запрос и, балуясь, врал от письма к письму, что фрак он дал сохранить в деревне Лысенькой, шляпу поменял в Подлипенках, а перчатки оставил леснику, большому театралу. Может, он и помнил что-то, но сочинял тоже. Кончилось тем, что Рукавицын получил серьезную и официальную бумагу с требованием «вернуть вещи великого режиссера в месячный срок». Рукавицын под эту бумагу добился от завода командировки и еще меня с собой потащил как «необходимого свидетеля» – и мы поехали по старым нашим местам. И Рукавицын не удержался и послал, разумеется, срочную телеграмму: «Случай тяжелый. Жилетка не найдена. Шлите денег дополнительные поиски»…
* * *
И вот мы вышли, позалезали в машину, толкаясь, как дети, и крича Рукавицыну, чтоб он от радости не гнал слишком и не вмял всех нас в какой-нибудь домик. Тут, собственно, и получились – проводы.
Мы мчали по вечерней Москве, и Рукавицын, как бы приступая к показу своих владений, говорил, весь в нетерпении:
– Сейчас. Сейчас. Вот оно…
Некоторое время Рукавицын молчал. Мы смеялись, а он молчал, как бы оценивая высоту и солидность нынешнего своего положения. Затем он сказал более-менее спокойно:
– Вот в этом доме я однажды ночевал…
И он отметил память о ночлеге тремя коротенькими сигнальчиками. Марина многозначительно хихикнула. И все опять захохотали.
– Блондинка? – поинтересовалась Марина.