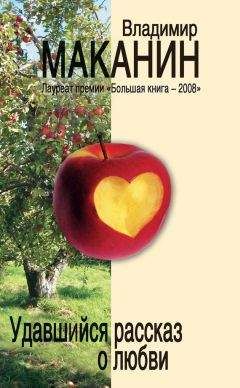– Я? – студент вспыхнул.
– Ну, разумеется.
Студент что-то заговорил, растерялся. Затем сказал тоненьким голосом:
– Поправляйся, Сережа! – и вышел, почти выбежал.
Сереженька лежал – лицо как маска, глаза недвижные, а солнце перекатывалось по трем апельсинам. Время от времени Лапин выходил в коридор – к телефону – и звонил на работу; если разговор был необязывающим, Лапин поскорее заканчивал: «Да. Я понял. Спасибо…» Иногда он спускался вниз, в столовую. Студенты бегали, студенты спешили, студенты шумели.
Сереженька заговорил (это было ближе к ночи). За десять дней почти сплошного молчания он впервые приподнял голову:
– Юра, я сегодня… умру.
Он поправил себе подушку.
– Юра.
– Да.
Сереженька заплакал. Затем всхлипнул, вытер слезы.
– Юра.
И улыбнулся. Лицо его пылало, и даже при вечернем свете лампы это было очень заметно.
– Юра, я все смотрю, как ты сидишь. Я вижу. Я только говорить не хотел. Я ни с кем не хотел говорить…
И он тут же как бы вскрикнул:
– Юра!
– Что?.. Что, Сережа?
– Знаешь, чего я не хочу, – спазмы сжали худенькое горло, и Сереженька по детдомовской привычке вцепился зубами в палец. – Я не хочу, чтоб ты думал, что ты зря меня вытягивал. Зря со мной возился.
Глаза Сереженьки остро блестели.
– Это не зря, совсем не зря. Ты не жалей, что на меня время тратил. Я вот учился, я даже поумнел очень здесь, с ребятами. Я ведь не был ненормальный… Я… я по эту сторону был. Не жалей, не жалей, Юрочка. Я человеком был…
Сереженька заспешил:
– Я все-таки жил, чего ж тебе жалеть. Я человеком жил, и ты не зря… Не зря мучился. Я хоть сколько-то жил, а ведь, помнишь, как…
И тут он опять заплакал:
– Я человек, ты же видишь. Я даже, в общем, неглупый…
И он повторял, всхлипывая:
– Я человек… человек…
Он уткнулся в подушку и дрожал, успокаиваясь. Плечи тряслись, на подушке дрожала его левая рука с выколотым именем (с этим вот всегдашним уменьшительным именем).
Он вытер глаза и спросил:
– А где они, Юра?
– Кто?
– Они…
– А-а, наши… Они живут. Все хорошо, Сережа. Ты хочешь их видеть?..
Сереженька затряс головой: нет, нет, я никого не хочу видеть, я просто спросил.
– А у них… у них все хорошо?
– Да.
Сереженька как-то быстро и хитро засмеялся, обрадовался:
– Вот видишь! Вот видишь! Значит, мы все-таки выиграли! Ага!
– Да.
– Чудак! Что же ты не радуешься, выиграли! Ага! Ага!
Нервное возбуждение нарастало, он смеялся, затем стал показывать на стене китайские тени, разгибая и опять сгибая пальцы в причудливые фигуры. «Этим штукам я давно научился, Юра. Давно!»… Затем дыхание участилось, он стал повторять: «Зачем надо мной смеялись?» Он заговорил чаще, чаще, и уже еле угадывалось: «Зачем они в кустах? Зачем они меня пожалели?» – бормотанье сошло в какую-то неразборчивую тряску губ, он что-то шептал, а затем вдруг пронзительно закричал:
– Мам-ма!.. Мам-ма-а-а!
Быстро вошел врач, придерживая халат при шаге. Врач уже около часа сидел там, в коридоре.
– Сергей, возьми себя в руки! Сергей! – врач нервничал, легонько тряс Сереженьку, шлепал по щекам, а все это уже было ни к чему – Сереженька не шумел, уже впал в забытье. А врач все шлепал. Наконец стало ясно, что Сереженька забылся, глаза его были закрыты и не дрожали.
Они вышли – врач и Лапин, оба закурили. Врач жадно затягивался. И говорил:
– Не могу слышать, как он кричит это «мам-ма». Я многих слушал. У него нет матери, да?.. Ну что же, бедный, он так кричит? Часто это?
– Каждую ночь.
– Да, да… И я бессилен. Ничем уже не поможешь. Никто не поможет. Я вот пришел – а зачем?
Врач попрощался и ушел. Он шагал не очень быстро и не очень медленно.
Сереженька спал – вот только хлебная корка была у него в руке, он бессознательно схватил ее, и она так и осталась зажатой в кулаке. Лапин разжал ему пальцы, положил корку опять на стол и вялым движением стряхнул с простыни крошки.
Скоро Сереженька очнулся. Но, как и раньше, долго лежал молча с открытыми глазами. Затем медленно выговорил:
– Ты не сердись, что я молчу…
– Да, Сережа.
– Знаешь, о ком я подумал? О Голеве. После той голодовки, помнишь, он болел долго и умер.
– Помню.
– И мы его хоронили, и ты взял его майку… Маленькая, желтенькая, она лежала у тебя в шкафу. Я года два назад на нее наткнулся случайно, ты ее берег… А потом она куда-то пропала. Жаль.
– Да. Я тогда жениться собрался, ремонт делал.
– На Гале Неробейкиной?.. Я помню. И майка пропала?
– Да. Тогда неразбериха была, а я стены красил.
Сереженька спросил:
– Ты прогнал врача?
– Нет. Он завтра придет.
И Сереженька прикрыл глаза, замолчал. Лапин подумал, что врач для Сереженьки тоже был, в общем-то, насмешкой, и хватит уже этого. И не придет он больше, не сможет больше прийти. Мы сами, родимый, закроем, мы сами…
Сереженька умер не в эту ночь, а на пятую ночь после этой. Больше он уже не заговорил, но лицо его теперь было мягче и как бы чище.
* * *
В один из тех дней Лапин зашел к Анне Игнатьевне Орликовой. Перейры-Рукавицына дома не оказалось. Он и Лида на два дня уехали к родственникам во Владимир (к каким-то дальним родственникам Анны Игнатьевны).
– Во Владимир?
– Да, вчера уехали… Садитесь же, садитесь.
Анна Игнатьевна тут же приготовила свой чай. Цветастая клеенка уже была на столе, пахучий парок подымался от чашек – а мебель и углы были знакомы с детства.
– Знаете, зять говорил мне, что вы тоже были в том детском доме. А я все думаю, где я лицо ваше видела… Зять почему-то долго не хотел мне говорить о себе и о детдоме – странный какой.
– Он просто смущался. (Лапин вспомнил плутовское лицо Рукавицына.)
– Чего ж тут смущаться?
Анна Игнатьевна рассказывала, восхищалась энергией зятя и вздыхала, что Лиде будет трудно учиться, если у них сразу появится ребенок. Хорошо, если бы не сразу, но кто тут угадает – они же молодые…
– Он так смело водит машину. Во Владимир поехали. Я побаиваюсь за него и Лиду, – говорила Анна Игнатьевна.
– Он хорошо водит. Очень хорошо.
Лапин прихлебнул из стакана, сидел и чувствовал, как устали ноги. Чай был замечательный.
– Горячий?
– Нет, нет.
Анна Игнатьевна говорила о дочери, о ее учебе, а Лапин еще раз глянул на висевшую фотографию. Фотография висела косо, и угол отломился, и потому отражение вечернего солнца падало на потолок – и были там лица детдомовцев. Маленькие голодные лица, уродцы напуганные, они смотрели, как суровые солдаты-недокормыши, словно знали все наперед. Они не ждали чуда. Они сидели стрижеными рядками и терпеливо ждали, что из объектива вылетит птичка.
В последнее время при мало-мальской вечерней работе Лапина одолевала сильнейшая сонливость и как бы опустошенность. Спать – вот чего он хотел, а напротив в камере стоял шум: один из задержанных, очень желчный субъект, кричал о пропадающем времени, о том, что он опаздывает домой к жене, еще о чем-то, и вот теперь вся камера наэлектризовалась – шум, гвалт и мат неслись оттуда беспрерывно. Появился Елютин, но в камеру не входил. Боялся. Осанисто, как молодой конь, он топтался на месте, а в помощь из глубины коридора бежали два милиционера, гулко стуча сапогами.
Лапин вышел на улицу и присел на крылечке. Шли люди с работы, час пик, вечер.
Рядом оказался оперативник:
– Юрий Николаевич, прокурор звонил. Просил тебя зайти.
Лапин кивнул и тяжело встал. Он двинулся по улице – две троллейбусные остановки, то есть три пролета, и затем срезать угол проходным двором. Путь (от отделения милиции до прокуратуры) автоматичен до мелочей, а что-то было новое. Он глядел на фонари, которые будто бы только сегодня ночью понавтыкали через каждые пять-шесть метров. И будто никогда он не видел вот этих асфальтных лунок, из которых росли среднего роста городские клены.
Прокурора он встретил в коридоре.
– Звали? – спросил Лапин (он подошел, чуть запыхавшись).
– Не я.
Лапин не понял. Прокурор – а с этого утра уже не прокурор, а пенсионер – смотрел на Лапина, улыбчиво щуря глаза. Едва Лапин показался в коридоре прямо с мелкого дождя в плаще, прокурор понял, что Лапин совершит эту маленькую ошибочку и обратится к нему. А Лапин не понимал, еще не догадался. Прокурор, может быть, в последний раз прохаживался сейчас по коридорам (и здание было отремонтировано как бы специально, к минуте, – сверкало). Лапин стоял усталый, сонный, с опущенными плечами.
– Звал, но не я.
И прокурор не объяснил, а лишь смотрел, ожидая, что Лапин сам догадается, и не только о том, что вызывает его новый прокурор Скумбриев, но и зачем вызывает. У Лапина не было сил расспрашивать. Он понял наконец.
– Вы добры были ко мне. Спасибо.
– Я? – сказал бывший прокурор и вдруг ласково, неуверенно засмеялся.
Лапин двинулся по коридору несколько более быстрым шагом.
– А-а… Входи!
Скумбриев сидел в кресле прокурора. Он, видно, и не примерялся к нему – он сидел как влитой. По нему и делали это кресло, если его и делали лет восемьдесят назад.