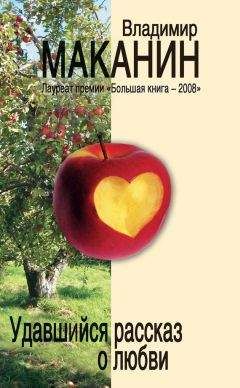– А-а… Входи!
Скумбриев сидел в кресле прокурора. Он, видно, и не примерялся к нему – он сидел как влитой. По нему и делали это кресло, если его и делали лет восемьдесят назад.
Скумбриев писал. Авторучка была старая, со сбоями, и он, встряхивая, бил пером по листу бумаги, специально выложенному, выгоняя каплю (он переехал в кресло прокурора просто и ясно и со всеми своими привычками).
– Ну что, Юрий Николаич, – весело сказал Скумбриев. – Много мы говорить не будем. Человек ты у нас неглупый.
Он смотрел на Лапина поверх своих записей. И все-таки, конечно, нужно было все назвать, и он назвал:
– Многогрешен ты. Я было утром уже приказ подписал. И пришлось бы тебе поискать другое место. Честно тебе говорю.
Он глянул строже (он уже не выдерживал веселого тона, который сам же взял):
– Я собираюсь перестроить работу. Я знаю все сильные и слабые места нашей прокуратуры. И для начала, а мне трудно придется сначала, хочу избавиться от слабых мест.
Он посмотрел на Лапина пристально:
– Ну? Что скажешь?
Лапин пожал плечами: все было понятно, все было по-честному.
Скумбриев (он вдруг сорвался) резко повысил голос:
– Ты понял?.. Я тебя много лет терпел. Хватит! И чтоб отныне твоя фамилия не фигурировала вместе с ними. Ни с твоим Сереженькой, ни с Рукавицыным (он уже кричал). И ни с кем из остальных. Ты понял?! Ни под каким видом! Ни с каким оттенком!
* * *
Утро. Лапин просыпается – он потягивается и вдруг вскрикивает детски радостно. За окном солнце.
– Праздник! – Лапин наливает себе большой золотистый стакан вина и смотрит на стакан, улыбаясь и зевая. Он пьет еще стакан. И еще. Мир становится прекрасным. В комнату приходят звуки: воробьи… Лапин высовывается из окна и дышит.
Вид через улицу необычен: у маленького фотоателье тянется длинный хвост толпы. Стоят военные, то есть, конечно же, не военные, а бывшие военные, – худые или уже от возраста тучные, с проседью в волосах. Они надели свои прежние мундиры, медали, не забыв ни одной, – они стоят подтянуто и строго. Они ждут фотографа, а над ними навис этажами роддом.
– Эй! – кричат им с пятого этажа.
Бывшие военные улыбаются.
– В чем дело? – кричит теперь кто-то снизу.
Все оживляются. Одна из рожениц бросает вниз два или три цветка. Распадаясь на лету, цветы, уже слегка засохшие, падают на асфальт.
– Ну как? Защитите нас, если что? – лукаво кричат сверху.
– Ого! – кричат бывшие солдаты. – Еще как! – И один из них выставляет большой палец кверху.
И у тех, и у других времени много. Теряя строгость, солдатская очередь задирает головы кверху, разглядывает, смеется и кричит:
– Еще как!.. Ого! Ого-го!
– А не хвастаете?.. Валя, посмотри: вот тот явно хвастает!
Лапин смотрит, как они веселятся, он одевается. Он выходит на улицу в белой рубахе, руки в карманы и плечи подняты чуть выше нормы, будто он немного форсит или немного зябнет. Катят машины, сверкая наведенной красотой. Солнце греет плечи. Лапин проходит мимо дома Гали Неробейкиной – ощущение освобожденности толкает его на неожиданное: он подымается и звонит.
– Чего это ты?.. Сто лет не заходил, – улыбается она.
– Праздник ведь, – говорит Лапин, не зная, что сказать.
Галя, видно, ждет гостей. У нее чистота и порядок в комнате.
Галя подставляет щеку и сама тоже чмокает его.
– Славик! – кричит она. – Уже гости!
– Иду, иду! – откликается из другой комнаты Славик.
Сейчас самое время радоваться, и Лапин спрашивает весело:
– Ну как оно?
– А как хочешь? – смеется Галя, она приготовилась, она ждет гостей. В комнате чисто, опрятно, и Лапин спросил именно в направлении этой опрятности и этого ожидания.
– Хочу, чтоб все хорошо!
– Спасибо, Юра. Водки налить?
Он выпивает рюмку и закусывает ароматнейшим холодцом с полупрозрачными пластинками нарезанной моркови. Галя смеется тому, как он ест.
– И брюки отгладил, – смеется Галя. – Небось вчера ночью старался? Молодец, праздник есть праздник. Налить еще?
Он медленно встает и счастливо уходит.
– Молодец! – смеется Галя и машет рукой.
Лапин заходит еще к каким-то знакомым, затем долго и все так же счастливо идет по улице. Он дает крюк, останавливается. Перед глазами маленький сгорбленный домишко – этакий сдавленный стон архитектуры. Здесь в свое время был их детдом, бревенчатый, темный и низкий домик. Впрочем, около тоже какие-то дети. Детей строят в ряд. Чистенькие дети, это почему же они не хотят строиться…
Дети кричат на высоких нотах и машут флажками. Они самозабвенны, они знай кричат, беззубую от конфет, беззащитную свою радость несут криком. Умиленный детской идиллией, Лапин входит в телефонную будку. Он набирает номер Рукавицына и слышит знакомый голос:
– Алло… алло!..
Он взахлеб рассказывает Рукавицыну о детдомовском домишке и о детях. Но Рукавицыну это неинтересно. Все, кроме Лапина, уже давно живут своей жизнью. Тогда Лапин вспоминает о деле (о единственном деле, которое у него есть на сегодня) и говорит:
– Ты не сможешь мне дать машину? На час?
– Смогу, конечно!
– Мне будет нужна машина, слышишь, Перейра. Прошу. Дело маленькое, но неблизкое. Приезжай прямо к отделению милиции часам к двум.
Лапин доволен: он еще вчера просил себе милицейского «вороненка», но не удалось… Построенная колонна детей с флажками идет на парад. Лапин становится на край асфальта и, все еще умиленный, машет им. Колонна детей движется, цветистый асфальт движется мимо него.
Лапин пересекает их живой ручей и идет дальше. Ага! Вот здесь квартира прокурора, то есть бывшего прокурора. Сначала подъезд, затем ступеньки и гладкие перила под рукой.
Дверь ему открывает сам бывший прокурор.
– Входи, Юра.
И Лапин проходит в большую квартиру. Смотри-ка: все здесь!.. Анис Бренцис покуривает. Она играет в преферанс со Скумбриевым и молодым Шульгиным. Молодой и нагловатый Шульгин, видимо, выигрывает – он смеется и бросает карту при ходе очень небрежно. Говорит, между прочим, о Лапине:
– Что, Юра, выгонят тебя в конце концов?
– Выгонят.
И все смеются. Лапин и сам смеется. В другой комнате виден телевизор – там сидит Ниночка, дочь Скумбриева, семнадцать лет, белокурая, тонкая, хорошенькая в изгибах, как белая ваза. Лапин чувствует прилив нежности. Где-то он пропустил, прохлопал в своей жизни этот момент, Ниночкин. Пионерский лагерь, елка, мама и папа, «Ниночка, ты не слишком увлекаешься джазом?» – многоликое счастье, елочные игрушки, красота белая и отшлифованная родительской заботой.
– Юра…
– Ну что?
– Юра.
Прокурор отводит его, уставившегося на Ниночку, и усаживает за стол рядом с Шириковым, который уплетает за обе щеки.
– Выпьем, Юра, – говорит Шириков.
И хотя Шириков жует беспрерывно, Лапин чувствует, что он не спускал с него глаз все это время. Они выпивают двое в отдалении от остальных.
– Юра, жирненького чего-нибудь, а?
– Нет, – говорит Лапин, ощущая в желудке великолепный кусок холодца с тонко нарезанной морковью.
А Шириков ест вовсю, он ест, как и должен есть скромный, но уверенный человек – самый перспективный человек в прокуратуре и самый скромный. И еще Шириков хочет, чтобы Лапин, этот как бы одичавший Лапин, который в последнее время ничего не знает, кроме своего пустого и паутинного жилья, чтобы он не чувствовал себя сейчас одиноким.
– Светский раут, – говорит Шириков Лапину негромко и добавляет: – Зря ты пришел. Здесь будет скука. А кто-нибудь опять будет острить, что ты пришел занять денег.
– А я просто так зашел, – быстро и ненужно начинает оправдываться Лапин и улыбается.
– Я знаю.
– Я занимал деньги не для себя. Теперь у меня этих забот нет.
– Я и это знаю, Юра.
Шириков отрывает от утки здоровенную темно-коричневую ногу и аккуратно переносит ее на тарелку Лапина.
– Поешь… Я иногда думаю, Юра… Ты же знаешь, я в душу не лезу, но иногда я думаю о тебе.
Лапин улыбается. И оба они приятно чокаются и приятно выпивают. К ним подсаживается бывший прокурор:
– Пить не забываем?
– Нет, нет. Стараемся.
– Так что же это была за публикация о злоупотреблениях?
Шириков оживляется:
– А-а. Это действительно любопытно. Дело в том…
Шириков рассказывает. Лапин слушает и смотрит в дверь наискосок, где Ниночка. Там же телевизор. Телевизор сияет и расплывается от праздника и счастья. Показывают народ. Вот высмотрелся однорукий немец. Немец помогает русской старушке на завалинке – полная идиллия – раскалывать камушком грецкие орехи. Старушка улыбается. У нее в войну погибли три сына, сообщает комментатор. И музыка: песнь моя, лети с моль-бо-о-о-ою… Шуберт идет полной силой, и Ниночка делает звук телевизора потише. И колются грецкие орехи крупным планом. Мозг старушки, ссохшийся от горя, тоже, наверное, похож на ядро грецкого ореха, ну какого-нибудь плохонького орешка. Лапин ловит себя на тяжелом и несправедливом чувстве и поскорее отворачивается.