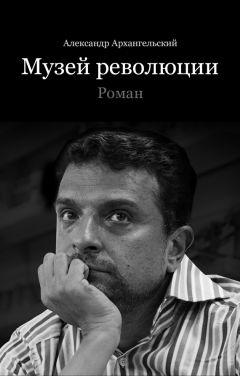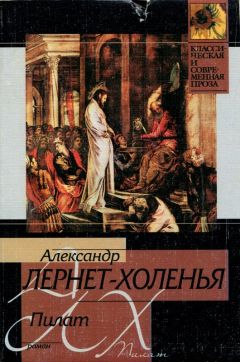Они поспешно шагали вдоль рельсов, ощутимо углубляясь вниз. Было тихо и сухо; вдруг сверху полились потоки грязи, под ногами хлюпнула вода; Павел испугался, что промочит ноги, но потоки вскоре прекратились, и воды больше не было. Через несколько минут тоннель опять пробило сильным тухлым ветром, как будто бы они попали внутрь насоса и невидимая сила до конца вдавила поршень. И снова все опасно стихло.
Ройтман замер, оглянулся.
Светильник на его пчелино-желтой каске издевательски бил по глазам, Павел по-бабьи прикрылся ладонью.
– Поспеваешь?
– С трудом.
– Скоро будет незаметный заворот, там запасная полоса на случай взрыва. Тихо свернешь, только свет не включай, ты меня понял? Петровича пропустим, и пока он побежит нас догонять, поговорим.
Ройтман командовал, как мальчик-вожак на войнушке. Первый взвод за мной, овчарка в засаде, три танкиста занимают боевую.
Скорее ощутив, чем углядев отстойник, Павел нырнул в черноту, вслепую сделал десяток шагов, налево, еще раз налево. Остановился, огляделся: мамочка родная, теперь понятно, что такое тьма. Это не когда темно и жутко, а когда не может быть света: он не предусмотрен штатным расписанием.
Дальним отголоском прозвучали бодрые шаги охранника. И опять беспримесная тишина. Из ее звериного нутра послышалось – придавленное, гулкое:
– Историк!
Павел отвечал свистящим шепотом, который отражался от невидимых стен, обрастал подголосками:
– Тут я, Миша.
И мелко вздрогнул: плеча коснулись пальцы. Как же неуютно быть слепым.
– Вот он ты. Что, страшно?
– Страшно. Как в аду. Пусто, безнадежно. Как будто Бога нет.
– А что, по-твоему, он есть?
– Да. Есть.
– Ты и в церковь, может, ходишь?
– В церковь не хожу. Говоря на вашем языке – обхожусь без посредников.
– А как же без посредников? Без них нельзя. Это я тебе точно говорю. Я знаю.
Голос в беспросветной темноте начинает казаться цветным. В эту самую минуту сипловатый серый голос Ройтмана стал как будто темно-красным, напряженным.
– Хорошо тебе, если веришь. Ты вот с Богом живешь, а я один… Так чего я тебя позвал… во-первых, надо с кем-то говорить, не с Петровичем же, в самом деле… ты не представляешь, тебе просто воображения не хватит, что будет, если в Штатах ничего не перепутали. Это же значит, что я – не еврей. Ты понимаешь, историк? Я – и не еврей.
– Ну, а что тут такого. Я тоже не еврей. И ничего.
– Тебе и не надо. Ты другую жизнь живешь. А я – на этом всё построил. Я в твоей говнорашке – чужой. И у немчуры – чужой. И вы мне все – чужие. А свои мне только ум и хватка. У нас же корни все растут из головы. Им что теперь, расти обратно в землю? Мама, мама, что я буду делать, когда придут морозы-холода?
Слышно было, как голос Ройтмана колеблется. Из красного он стал жидковато-оранжевым.
– Ладно, подождем психовать, надежда умирает последней. Верно, историк? Вот именно. Чего я тебя позвал. Ты знаешь, я теперь не при делах. Пост сдал, пост принял. Это к разговору о посредниках… но ладно, не буду вихлять. У меня есть идея… но если она утечет, лучше тебе было не родиться. Правду говорю. Поверь, дешевле выйдет.
Голос загустел и вспыхнул, по краям пошли малиновые протуберанцы.
– Да не пугайте, Миша. Я, во-первых, не боюсь, а во-вторых, я не по этой части. Если идея по мне, то включусь, а не по мне, так я ее забуду.
– Ладно, мое дело предупредить, а ты послушай.
Ройтман говорил немного сбивчиво, сделает рывок вперед, вспомнит, что недосказал, вернется; но в целом получалось интересно. Если Павел правильно все понял, то впереди, и очень скоро, миру предстоит недолгая и несерьезная война, и совсем не там, где все боятся, а в Иране; сразу же за ней взорвутся Пакистан и Индия, будет ядерная бомба – небольшая, это очень далеко, не бойся. В России начнется развал и движуха, рванут и Дагестан, и Карачаево-Черкесия, европейцы расползутся по своим берлогам. Как минимум на десять, на пятнадцать лет. Это значит – что? а это значит, резко вздорожает топливо, заново вернутся визы, иностранцам в европейских банках заблокируют счета. Фейсбуки и ЖЖ затормозят, из-за фильтров и цензуры… но не важно, это все детали. Важно – что? Потребность тусоваться не исчезнет. Люди, они как вода, текут по готовому руслу. Внимание, вопрос. Какое русло им предложат? Тормозим, поднимаемся выше, смотрим на историю двадцатого столетия…
Ноги постепенно затекали. Павел ощупал холодную бугристую породу, боязливо на нее оперся, опустил бесполезные веки и по привычке стал придумывать картинки, которые как будто оживали и превращались в пластилиновый мультфильм.
Начало века. Дощатый забор, палисадничек, дом с мезонином. Наезд на крупность: под круглым абажуром, за круглым столом сидит семейство. Папаша с пышной бородой, упитанная мама, куча деток, мал мала. Пузатый заварочный чайник, пухлая рука хозяйки, красная струя. За окнами темень, в ней клубятся страхи, закипают войны, революции. Семья сидит лицом к лицу, спиной к стене. За которой – все чужое, непонятное. А вокруг простое, милое, свое.
Откуда-то издалека, как сквозь затычки, пробивался увлеченный голос Ройтмана; он толковал про то, как мануфактурное производство связано с семейным бытом, что-то про фабричную культуру и прибавочную стоимость…
Наплыв, затемнение, диафрагма раскрывается, перед зрителем уже пятидесятые. Какой-нибудь провинциальный штат Америки. Крашеные стены, кресла в белых чехлах, толстый телевизор. На диване расселась семья. Плечом к плечу. Лицом к мерцающему, синему экрану. По которому показывают мир. Далекий, непонятный. Никто не помнит, как зовут соседа, зато все спорят о героях сериала, великих футболистах, манекенщицах и комментаторах. Людей соединяет телевизор, они замыкаются в нем, как разорванные провода.
Постиндустриальная эпоха… экономика впечатлений… кратная прибыль.
Наплыв, затемнение, мы в нулевых. Современная отдельная квартира, в центре комнаты лежит ковер, к стенам приставлены компьютерные столики. Члены семьи сидят спинами друг к другу, лицами к экранам. Каждый к своему. Сегодняшнему человеку надо быть наедине со всеми. Со всеми сразу, и ни с кем в отдельности. Он теперь спиной к своим, лицом к чужим. Семья – это люди, которые находятся в одной квартире, а живут в отдельных коконах, в своих разделенных сетях.
– Историк, ты прикинь – кому могло присниться, что нормальный человек, взрослый, заметь, не сопляк, – полезет в интернет, разыскивать каких-то одноклассников? Да кто они такие, одноклассники? Им чего от тебя нужно? Денег и связей. Пока учились, понимаешь, ты был жид вонючий. А теперь ты гордость класса.
Павел отвлекся от своих картинок, вслушался. Голос снова стал оранжевым, обиженным.
– А ведь по́стятся, вешают фотки… психоз! Но денег заработать можно.
Последний наплыв, затемнение, выход. Человек на космической станции. Он совершенно один. Мы смотрим на его из космоса. В иллюминаторе – большое бледное лицо – испуганные черные глаза – он понял, что его уносит во Вселенную. На станции есть автономное питание, огромные запасы пищи. Но при аварии повреждена обшивка, во все стороны торчат провода. Как водоросли, колышутся в пустом, безвидном небе.
Человек стучит кулаком по стеклу: подключите меня! А в ответ космическая тишина.
Красивое получится кино. Философичное. А Ройтман продолжает гнуть свое, про деньги; теперь человеку нужны не одноклассники и не френды. Ему нужны дедушка с бабушкой. Фотографии племянников троюродного дяди. Как будто все опять сидят лицом к лицу. Как будто ничего не порвалось.
– В общем, года через два, много через три-четыре все полезут в интернет искать родство. Захотят общаться не по поводу себя, любимых, а по поводу общего прадеда на первой мировой. Или начнут разыскивать потомков бабушкиной подруги, чьи папа с мамой были на паях в каком-нибудь кофейном или чайном доме…
– Богатая идея. Главное, не перепутать, как с американскими соскобами…
Ройтман проглотил обиду; ему сейчас важней заполучить ехидного историка в партнеры. А если нужно будет посчитаться, то потом.
– В общем, запускаю историческую сеть. И зову тебя в разработчики. Название уже придумал: Флэшбек. Тут и перехват Фейсбука, и кино…
– А я бы назвал «Предки. Ру».
– Как?! «Предки. Ру»? Слушай, а хорошее название. Только слишком местное. А нужен мировой захват… Хотя… ты знаешь что? я и Флэшбек зарегистрирую, а в тестовом режиме мы запустим предков. Историк, а ты молоток…
Павел ощутил болезненный хлопок по плечу. И подпустил иронии в ответ:
– Только у меня условие такое же.
– Какое у тебя условие?
– Название мое. Сольете – пожалеете, что родились.
Миша просто хрюкнул от восторга.
– Двадцать копеек. Наезд-отъезд. Послал обратку.