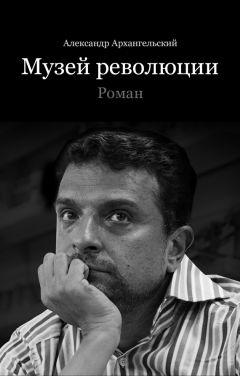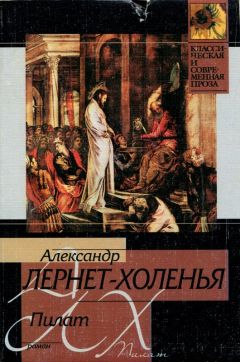Из тоннеля послышался сдавленный крик: Михаил Ханаанович! Где вы? И громкая ругань по хрипящему переговорнику.
– Ладно, все, поговорили, ты обдумай, завтра обсудим детали… А то Петрович от ужаса в штаны наложит.
Подумал, и добавил панибратски:
– Слушай, историк, не в службу, а в дружбу, слепи мне для музейчика обрезанную куколку? заради хохмы? Слепишь?
Как же его зацепило…
И опять они шагали вдоль пустых путей, утопая в рыхлом крошеве. Тухлый ветер проносился мимо, прогрохотала вагонетка, гигантская, помятая, годов, наверное, пятидесятых; по пути они разглядывали медную породу, раковым образованием проросшую сквозь мертвый черный пласт.
Наконец, спустились на один пролет, из подпольной тишины в подземный грохот.
– А?! – гордо прокричал ему Ройтман, больно, прямо в ухо. – Вот она, дробильня, видел?
Они стояли на платформе, огороженной ржавым заборчиком. Под ними в падучей тряслась дробильня; каменные глыбы бились о стену, раскалывались, распадались, просыпались щебнем, а редкие куски породы, словно прошитые звонким металлом, попадали в желоб и, дрожа, ползли на переплавку.
С размаха врезавшись в огромную заслонку, прямо перед ними тормознули вагонетки. Первую схватили механические руки, отцепили от состава и зажали, как забойную свинью. Она зависла над ковшом дробильни. Перевернули, вытряхнули содержимое, крутанули вокруг оси и передвинули на запасную линию. О загородку стукнулась очередная вагонетка.
Ройтман влюбленно смотрел на дробильню, а Павел снова представлял, какое классное кино могло бы получиться – с погонями, обвалами породы, красивой бойней в вагонетках, зависанием вниз головой над дробильной машиной, и обязательно со взрывом в роковой финальной сцене – живой огонь несется сквозь тоннель, зритель просто плачет от восторга.
И вдруг – вдоль стен, прижимаясь к породе, пугающе пополз объемный звук и под ногами содрогнулась почва. Не так, как вздрагивала от дробильни, не по-детски. Утробно завыла сирена, свет вырубился, техника остановилась. И тут же загорелась лампочка на каске у начальника охраны:
– Михаил Ханааныч, в порядке? Авария, рвануло где-то снизу, давайте уходить в запаску.
– Ты, Петрович, зараза – накаркал. А если обвал, а если авария… Вперед! Узнай по рации, что там. Павел, выключи лампу. Экономь. Хорошо хоть на дно не спустились. В случае чего пешком попробуем.
Снова ухнуло, шахта пошла ходуном. Прекратив бессмысленную болтовню, они побежали в защитный отсек.
Пепельно-серый котенок копошился на большой ладони Шомера; у котенка были сизо-мутные зрачки под скользкой младенческой пленкой, он мелко скреб лягушачьими лапками и пытался присосаться к пальцу. Теодор с отческим тщеславием пощупал карандашный хвост. Хрящ хвоста был тонкий и упругий, при нажатии на кончик закруглялся.
Кто бы мог подумать, что дело завершится этим. Двуухим. Сюсипуси. Фигельмигель.
В тот вечер, узнав, кто на проводе, самоуверенный владыка поперхнулся; утробный низкий голос расщепился, стал по-стариковски сиплым, дряблым.
– Кхм-кхм. Товарищ Шомер… Что же, очень рад, товарищ Шомер. Очень рад. Кхм-кхм. Ну давайте… кхм… Теодор… Казимирович. А то я уж было подумал. Письма мне передаете, предлагаете договориться, и – фрыть. Нету вас. Ах, вы уезжали? Ну понятно, ну понятно. Только незадача, теперь уже я отъезжаю, завтра после ранней. В столицу, так сказать. Его Святейшество просили быть. – Голос снова загустел, вернулся в силу. – Так что либо сейчас.
«Либо» – в смысле давай, собирайся. Странный у владыки выговор, веет чем-то родным и забытым; так в старом доме прячутся лежалые остатки прежних запахов.
– Либо сейчас.
– Ха-ра-шо. Заодно повечеряем, чем нам Бог послал. Как вы, за час доберетесь?
– За полтора.
– Ну ха-ра-шо.
Шомер был в отличном настроении. Несмотря на боль в бедре. Потому что знал заранее, как этот вечер сложится. Он сначала притворится, что приехал с той, первоначальной просьбой, изложенной в личном письме: оставить храм хотя бы до поры, до юбилея, а после учредить специальную комиссию с участием губернского начальства и Росохранкультуры. Взамен – любой посильный вариант. Благотворительный заказ на ткани, для епархиальных нужд, помощь в устройстве экскурсий – владыка выцыганил долгородский Кремль, а как подступиться к туристам, не знает; в конце концов, музейный взнос в какой-нибудь церковный фонд. На выбор. Сочиняя то давнишнее письмо, Шомер надеялся выиграть время; нельзя вести войну на нескольких фронтах – сначала нужно выгнать непосредственных захватчиков, а потом уж как-нибудь отшить епископа. Но ситуация переменилась, о чем Вершигора пока не знает. Поэтому они сначала поторгуются как следует, Теодор изобразит уныние, епископ решит, что победа за ним, тут Шомер и выложит свой новый аргумент.
Нужно было прихватить какой-нибудь подарок… Историю усадьбы… это ясно… образцы версальских тканей… но что-нибудь еще, с подтекстом. Владыка, говорят, антисемит, но в доме ничего еврейского не обнаружилось. Хотя бы бугристой мацы, хрустящей, как финские хлебцы. Кажется, сейчас ее не делают, не время. Шомер в синагогу не ходил: он презирал здоровых мужиков, которые цепляют на лоб непонятные черные коробочки, накидывают бабьи покрывала, и качаются туда-сюда, перемотанные ремешками, как бойлерные куры в сетках.
Шомер пересилил гнев, временно прервал бойкот и позвонил отцу Борису.
– Борис Михайлович?
На том конце послышалось молчание. Подсвеченное меркнущей надеждой. Неужели совершилось чудо, и Теодор его помиловал? предательство забыто-прощено? Не обольщайтесь, отче настоятель; это просто временное перемирие.
– Я, Теодор Казимирович. Чем могу быть полезен?
– Тем, что справку дадите. Что вашим монахам нельзя?
Снова повисла неловкая пауза… а все-таки приятно быть усадебным Иван Саркисычем, ставить подчиненного в тупик и наблюдать за паникой, перерастающей в отчаянье. Поп растерян, напряжен, и только одному тебе известно, за какую ниточку сейчас потянешь, и какая ручка-ножка дернется в ответ.
– Я не понял, Теодор Казимирович. В каком это смысле?
– В самом прямом. Мне кажется, что я понятно говорю. Мне надо знать, чего нельзя монахам? Ну, кушать, или в руки брать?
– Не знаю… Мяса нельзя, вообще-то… Но многие сейчас уже не соблюдают… нескромные изображения нельзя… а вам-то зачем, Теодор Казимирович?
– Мне – надо. Еду в гости к вашему начальнику, хочу для него неприятность.
– В этом я вам помогать не стану, – голос зазвучал самоотверженно. Дескать, готов принять изгнание и поругание, но своего епископа не сдам.
– А и не надо, вы мне уже помогли, я вас, Борис Михайлович, услышал.
В веселом раздражении Шомер прошерстил библиотеку, отыскал роскошный итальянский кондуит «Обнаженное тело в культуре ХХ века», привезенный года два назад из Падуи, килограмма полтора нагой натуры: юная дама в ажурных чулках с волнующим виолончельным задом расслабленно смотрится в зеркало, женское тело, рассыпавшееся на детали, как машина, гуталиново-черый красавец проступает сквозь молочно-белую красотку… Забежал на кухню, вынул из просторной морозилки сверток с кабаньими котлетами, которыми его снабжал Прокимнов, упаковал в большие магазинные пакеты, и полетел к машине с командирским воплем:
– Заводи!
Тот, кто никогда не испытал азарта, не знает, что такое закипает кровь; а ведь это не метафора, не образ, но самая что ни на есть физиология. Начинается дрожь под коленкой, ноги отекают, кровь по заскорузлым венам резкими толчками рвется к сердцу, родником пульсирует внутри ладони, резко воспаляются глаза. И чем сильней разгораются страсти, тем холоднее делается ум; ты заранее готов к фехтующим ударам; принимаю вызов, господа!
Въехав в монастырские ворота, Шомер с ревностью отметил отрешенный желто-синий свет, в котором, как в светящемся тумане, расплывались силуэты купольного храма… эффект невероятный, потрясающий, надо будет так же осветить их деревянный храм. В натопленных покоях били по глазам старомодные лампы, с белой ослепляющей спиралькой в сердцевине. А в кабинете свет был приглушён, здесь стоял душноватый сумрачный покой, как в городской застоявшейся бане.
Суковатый высокий старик встал из кожаного кресла, покрытого сеточкой трещин; он демонстрировал уверенность и силу, ни намека на вечернюю усталость:
– Милости прошу… господин директор.
И хитро протягивал руку, полуразвернув ладонь: то ли ждет рукопожатия, то ли предлагает приложиться.
Шомер, проклиная собственную нерасторопность (нужно было вещи поручить водителю, а так – несолидно и глупо), поставил на пол грузные пакеты, с хрустом распрямился и ответно вывернул кисть – то ли для рукопожатия, то ли для приветственного поцелуя в перстень, старинный, с тяжелым агатом. Жест был давний, отработанный; он где-то прочитал, что так приветствовал просителей Мещеринов-Четвертый.