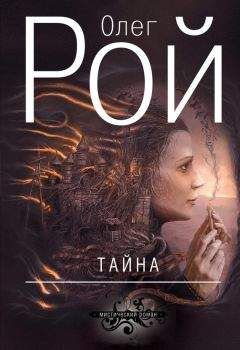Оля рассмотрела в зеркале свою землистую пергаментную кожу, морщины, потрескавшиеся руки, тусклые – а ведь были густыми и русыми! – волосы с проседью и нахмурилась. Она сняла платье, аккуратно повесила на вешалку, накинула затрапезный халатик и вышла в комнату, где что-то мастерил Петр.
– Я некрасивая, совсем старая, – горестно посетовала Ольга.
– Ты самая красивая из всех, и даже не представляешь – насколько, – возразил с улыбкой Петр, отложив инструменты. – Это я тебя не утешаю, это самая настоящая правда.
– Ой, обманываешь, – усмехнулась Ольга, – я выгляжу ужасно – на меня смотреть страшно.
– Ты ведь у меня перед глазами стоишь та, настоящая, а это только оболочка. Так уж сложилось, по какому-то дикому недоразумению, что она сейчас на тебе. Но под ней – прежняя ты. Вот отдохнешь, и все вернется, это пара пустяков…
Оля слабо улыбнулась:
– Я и внутри вся израненная, побитая. Не та, что прежде – беззаботная и легкая.
– Да и меня жизнь побила, – усмехнулся Петр, – а все же мы теперь самые с тобой счастливые.
И правда, когда Оля надела свой свадебный наряд, причесалась, она необыкновенно похорошела, стала походить на ту прежнюю девчонку, что бродила с Петром по мягким полевым дорогам их юности.
– Олюшка… – выдохнул Петр, глядя на нее повлажневшими глазами, – вот ты и вернулась…
И немногие гости, среди которых была Люба с Серафимом Волынским, тоже вышедшим на поселение, знакомые Петра и Оли, сестра Любы – Надя, «вторая мама», как называла ее Оля, первым делом ахали от удивления при виде невесты, а потом почему-то грустнели, вспоминая, через какой ад пришлось им всем пройти.
Но свадьба есть свадьба, выпили за здоровье молодых, покричали «горько!», вспомнили какие-то смешные истории, которые вопреки всему с ними случались, завели патефон, который принес Серафим Иванович, и стали танцевать…
Веселье было в самом разгаре, когда в дверь постучали. Стук этот раздался посреди всеобщего веселья, как гром среди ясного неба – наглый, резкий, громкий. Все недоуменно переглянулись и застыли. Они вдруг почувствовали, что пришел кто-то чужой и ничего хорошего этот приход не сулит.
И эти недобрые предчувствия оправдались…
На этот раз Оля ехала в Москву уже в самом обычном вагоне, но под строгой охраной – в соседних купе разместилось сразу восемь солдат. Они следили за каждым ее шагом, правда, предоставили возможность ехать в купе одной. Ольга подошла к двери и взглянула на себя в зеркало. На нее смотрела угрюмая, седая, испуганная старуха.
Ее привезли в уже до боли знакомом «черном воронке» в загородную резиденцию Сталина. Только теперь Ольга не рассматривала с любопытством тот кабинет, в котором была несколько лет назад. В нем, к слову сказать, мало что изменилось. Она просто устало села на стул и стала бездумно и равнодушно изучать узор ковра у своих ног. Не было ничего – ни боли, ни страха, ни ненависти. Только оглушающая пустота.
Сталин не заставил себя долго ждать – видимо, ему не терпелось поговорить с «деревенской сумасшедшей». Войдя в кабинет, он внимательно осмотрел Ольгу.
– Ты подурнела, – заметил великий вождь, глядя на нее, – плохо выглядишь, постарела.
Это было действительно так – женщина, которой исполнилось немногим более двадцати лет, сейчас казалась сорокалетней.
– Я и есть старая. И во мне главное не красота, никогда на это не зарилась. Вы меня сюда ведь не за красивые глаза вызвали, верно? – зло ответила Ольга.
– Осмелела, смотрю. Думаешь, терять больше нечего? Ошибаешься. Многие так думают, а потом раскаиваются, – усмехнулся он.
Он разговаривал с ней как со старой знакомой: чуть насмешливо, фамильярно и по-свойски. Как ни странно, такое обхождение ее не обижало – так было проще. На мгновение он показался ей таким же обыкновенным человеком, каким был когда-то – несчастным и очень одиноким, вынужденным никого не подпускать близко к себе и не доверять даже своим родным.
Ольга догадалась, как не хватает ему обычного человеческого общения – ведь рядом только подчиненные, ему нужно держать их на расстоянии. Только и может вот так свободно, по душам, поговорить с деревенской девкой, которую сам на долгие годы упек в неволю.
Сталин прошелся по кабинету и сел спиной к окну, в тень. Ольга больше не видела выражения его лица, но прекрасно представляла, гораздо лучше, чем могла бы увидеть глазами, что чувствует сейчас Сталин. Испуг, сомнение, слабость? Через несколько минут ему предстояло узнать важные вещи. Готов ли он к этому знанию?
Он набил трубку и закурил, казалось, не обращая на Ольгу ни малейшего внимания. Но она знала, что это не так: сегодня в этом кабинете она была главной, и, как бы он себя ни вел, женщина понимала, что слова ее будут весить больше, чем советы иных министров и генералов.
Он уже поверил ей. Он знает, что она не врет. Как это использовать сейчас, что сказать?
Она должна следить за тем, что говорит. Не самой себе, так кому-нибудь другому, а может, и многим людям она сейчас может или облегчить, или порушить жизнь. Ей надо быть очень внимательной. Это только кажется, что тиран и властитель судеб одной шестой части суши равнодушен к чужому мнению – он чутко, может, даже слишком чутко, прислушивается ко многим, кто рядом…
Беда только в том, что, когда она видит, она не принадлежит сама себе, через нее говорит неведомая необоримая воля, которой управлять невозможно. Она судорожно вздохнула и сосредоточилась.
– А как сложится судьба моего старшего сына, Якова? Он ведь попал в плен, ты знаешь. Ты так мне и предсказывала в прошлый раз… Он живой еще?
Ольга помедлила, потом, тщательно выбирая слова, ответила:
– Живой ваш сын. Этой весной появится возможность вызволить из плена Якова. Поменять его на немецкого генерала.
Сталин задумался, Ольга тоже замолчала. Не говорить же вождю все, что видит, – это известие будет слишком тяжелым для любого отца, даже для такого, как он. А видит она, что в апреле 1943 года Яков Джугашвили погибнет в плену. Не захочет, судя по всему, его всесильный, облеченный властью родитель обменять сына. Несоразмерными покажутся ему условия немцев, а может, и проще так будет – меньше ненужных разговоров и слухов. Видит Ольга, вот Яков незадолго до смерти ходит смурной и подавленный по лагерю. Душу его терзает чувство стыда перед отцом за то, что он остался жив и находится в плену. Наконец он решается… Во время прогулки он неожиданно бросается на ограждавшую лагерь колючую проволоку.
Часовой кричит, у него четкая инструкция на такой случай, но он медлит. Наконец он вскидывает автомат… По иронии судьбы, история пронесет имя того часового сквозь годы, и студенты исторических факультетов будут знать, как его звали. Этот поступок таким нелепым образом прославит его.
Ольга вздрогнула, потом дотронулась рукой до лба, словно прогоняя жуткую картину. Это не ускользнуло от внимания Сталина.
– Обманываешь?
– Я говорю, что вижу, – с трудом выдавила Ольга.
– А дочь?
– У вашей дочки Светланы будет нелегкая жизнь. Она несколько раз побывает замужем, родит детей. После вашей смерти она сбежит за границу, напишет свои воспоминания о вас, прославится. Там, за границей, она снова выйдет замуж и родит дочь. Потом она вновь вернется в Советский Союз, а потом уедет опять. Где только она не побывает: в разных странах, в монастыре и в доме престарелых… Умрет в Америке. Но жить будет долго, – добавила, помолчав, Ольга, словно в утешение.
– А сыну Василию придется еще тяжелее, – продолжила она, глядя, как Сталин тяжело опустил веки. – Сразу после… ну, как вы… умрете… его арестуют и отправят в тюрьму. Потом отпустят. Ему запретят жить в Москве и Грузии, носить вашу фамилию. Не пройдет и десяти лет после вашей смерти, и он помрет… Пить будет сильно…
– М-да… – Сталин нервно забарабанил пальцами по столу, – не балуешь ты меня, да и за что бы? Впрочем, удивляться этому было бы глупо. Как только меня не станет, они накинутся на детей как стервятники и разорвут их.
Оля не проронила ни слова. В такие минуты она не принадлежала сама себе. Ею словно водила какая-то чужая запредельная воля.
– Ну, что молчишь? Ждешь, что благодарить тебя буду?
– Не жду. Знаю я вашу благодарность-то, наелась ею в лагере досыта, – спокойно ответила Ольга.
– Ишь ты, смелая какая, – усмехнулся Сталин. – А если я тебя спрошу, что будет со мной дальше, не побоишься сказать?
– Я-то сказать не побоюсь, а вот вы – не побоитесь ли услышать?
Сталин помрачнел, пожевал губами.
– Говори… – наконец сказал он просто.
Лицо Ольги стало вновь замкнутым и отрешенным. Она помолчала и заговорила низким, словно бы не своим голосом.
– Вам осталось примерно десять лет жизни. Вы помрете весной, лежа без сознания в своей постели. Вокруг вашей смерти будет ходить много слухов. Не обойдется без предательства ваших ближайших соратников. После вас будет Хрущев. Он назовет время вашего правления культом личности. Он скажет, что ваш образ был окружен божественным сиянием, а это, мол, неправильно. Он будет утверждать, что вы создавали собственную биографию, искажали прошлое, называя себя великим вождем, блистательным полководцем, гениальным ученым…