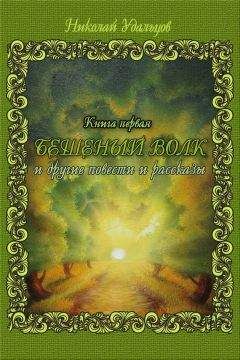Ознакомительная версия.
А там, вот что приключилось: оказалось, что десять рублей, это такие деньги на которые все не купишь, а только что-нибудь одно: мороженое, жвачку или пирожное.
И тут мне так захотелось и пирожное, и мороженное ну а жвачку мне всегда хочется.
Смотрю на Борьку, а Борька хоть ничего и не говорит, но по нему видно, что и ему все хочется.
И что он – что делать не знает.
И я не знаю.
Так бы мы и стояли перед буфетом, как все, но Аврора взяла и предложила:
– Мальчики, давайте купим одно пирожное, одну жвачку и одно мороженное. И все поделим.
Как я сам не догадался, не знаю, а Борька говорит:
– Я как раз это и хотел предложить.
Ну, накупили мы этого всего, да еще пачку маленьких леденцов, сели за стол как большие и всего напробовались.
А те, кто до нас покупали, стали друг у друга просить, потом ссориться и кончилось все ревом.
Когда мы из театра на метро в садик возвращались, Борька меня спросил:
– Димон, почему так – одни умеют пользоваться деньгами, а другие только и знают, что орут, что им денег не хватает?..
…Таша Борисовна однажды вывела нас во дворе перед садиком и сказала, чтобы мы собрали все коробочки, ящички и всякое такое для того, чтобы собрать на дворике большущее человеческое лего, вроде терминатора или памятника.
Только, чтобы на нового человека было похожее.
Мы тут же объединились с Борькой и Авророй и из-под лестницы вытащили старый ящик от телевизора.
Нам такого делать еще не поручали, вот мы и заволновались – вдруг не получится новый человек.
Или получится плохо.
Но Таша Борисовна сказала:
– Под моим руководством получится хорошо. Если постараться.
Мы и принялись.
Поработать мы, вообще любим – то стул впятером передвинем, то все вместе решаем, кому следующий стул передвигать.
Чем хорошо что-нибудь делать – можно разговаривать на любую тему, и воспитатели не заругают, что ничего не делаешь, а тоже разговаривать начнут. На то она и работа, чтобы поговорить.
По-моему, просто воспитатели так же любят работать, как и мы.
Это не то, что за обедом.
Ногу новому человеку, правда, только одну, сделали из старой швабры. Туловище из ящика, что мы притащили, руки из веточек, голову – из мячика.
Одежду ему, как человеку, смастерили из старого коврика и мешка из-под тряпок.
Борька ему даже саблю на веревочку привязал.
Все очень старались. И лентами его обвязывали, и красками разукрашивали.
Полдня трудились, и букетик с цветками ему девчонки на пояс привесили. И ботиночки старые на плечи проволокой прикрутили – получилось как у генерала.
Даже шапку из травы сплели. Правда я не очень уверен в том, что вышла шапка, а не прическа.
Но все равно – красиво получилось.
После Поля Николаевна нас всех вместе с нашим новым человеком сфотографировала.
Мы все довольные были, только кушать очень захотелось. А дядя Миша, он у нас краны починяет, сказал:
– Молодцы! Трудитесь как при коммунизме.
Я подумал, а потом Борьку спросил
– А при коммунизме – это как?
Борька подумал и говорит:
– Не знаю.
Пришлось мне самому додумывать. Я даже Ташу Борисовну спросил:
– При коммунизме, это – когда все работают, и всем кушать хочется?
Что Таша Борисовне поотвечала, я не узнал потому, что пришла баба Катя, она у нас комнатой с вениками заведует, и говорит:
– Молодцы, ребята.
Верка тут же всунулась, она всегда лезет, когда ее не спрашивают:
– Мы это сделали под руководством Таши Борисовны.
Баба Катя ее похвалила – я бы лучше Аврору похвалил, если б мне пришлось из девчонок выбирать – а потом сказала:
– Вот бы мне такое пугало на огород…
Когда после обеда нас спать уложили, я смотрю – Борька не спит. Я его спросил, почему он не спит, а он говорит:
– Думаю.
– Я тоже, Борька, думаю.
Когда мы с ним думаньем поменялись, оказалось, что мы об одном и том же думаем:
– От чего, даже под хорошим руководством, создают люди нового человека из того, что у них есть, стараются, а получается – пугало огородное?..
Так мы втроем дружили, а потом Борька заболел свинкой, а я узнал, почему мой папа плохой.
Борькины родители живут от нас через четыре двора и наш садик.
В первый раз мы Борьку навещали с папой, а потом – только с мамой. Потому, что когда с папой, то Борькин папа сказал моему папе, я, правда, не понял, что, но запомнил:
– По одной, за встречу можно.
А папа говорит:
– Мне нельзя. Я с ребенком.
А Борькин папа моему:
– С ребенком, это же не за рулем.
Ничего себе – не за рулем, если мы домой на такси возвращались. Маме это очень не понравилось, а мне понравилось.
Но еще больше мне понравилось, что Борькина мама нарисовала перед его кроваткой черточку мелом – мне бы такой пол в доме, чтобы мелом рисовать можно было. Вот это была бы жизнь.
И еще, Борькина мама сказала:
– За эту черточку заступать нельзя – заболеешь.
Только это не очень правда.
Я одной ножкой заступил, и ничего, не заболел. Хотя поболеть хоть неделю, я не против.
Может так всегда – взрослые рисуют себе черту, за которую заступать нельзя, а потом боятся ее переступить, потому, что уверены, что за нее нельзя ни в коем случае…
…Вот, один раз, возвращались мы с мамой от Борьки вечером, а вечер был такой теплый и тихий, что и возвращаться не хотелось. И деревья были такими темными, что в жмурки поиграть классно было бы. Только не с кем – не с мамой же в жмурки играть.
Я впереди шел, а мама сзади, поэтому она ничего не видела.
А я видел.
Когда заглянул за оградку нашего садика через кустики.
Садик был такой темный и мирный, будто в нем никто никогда в углу не стоял. Только одно окошечко светилось и чуть-чуть двор освещало. И песочницу освещало, и карусель, и скамеечки.
Все скамеечки были пустые, кроме одной.
А на той, одной, сидела Таша Борисовна.
А рядом, близко-близко стоял мой папа.
Папа Таше Борисовне расстегивал рубашечку, а Таша Борисовна ее застегивала.
И они не ссорились, а как будто боролись понарошку.
Папа говорил тихо, но я все равно все слышал:
– Не бойся – ты будешь счастливой.
А Таша Борисовна говорила:
– Какое же это счастье? – и голову свою опускала, словно виноватая.
– Ты должна быть счастливой, – сказал папа, а Таша Борисовна заплакала.
Я маме ничего не сказал о том, что папа плохой.
Я это сам понял:
– Только очень плохие люди заставляют других людей быть счастливыми на свой лад…
…На следующее утро я никому не рассказал, что видел. Да и некогда было.
Опять комиссия к нам пришла, потому, что наш садик скоро будет показательным.
Нам всем опрос устраивали, а перед опросом, Поля Николаевна нас предупредила, чтобы мы подумали над тем, что ответить на вопрос: «Что должны делать маленькие люди, чтобы вырасти настоящими гражданами?» – наверное, комиссия думает, что кто не сможет ответить, тот вырастет игрушечным гражданином.
Мы, конечно, все подумали, и когда нас за столики рассажали, то тетька из комиссии стала спрашивать:
– Что должны делать маленькие люди?
– Слушаться папу и маму, – говорит Верка, Она у нас всегда первая говорит.
– Правильно. А еще?
– Помогать маленьким, – говорит Жора. Он хоть и вредный, но самый маленький у нас.
– Правильно. А еще?
– Слушаться воспитателей.
– Учиться читать.
– Учиться считать.
– Учиться писать.
– Не мусорить…
Вообще-то все чего-нибудь говорили. Только я молчал.
Не то, чтобы я был не согласен с остальными, просто у меня был свой ответ.
Я, правда, не знал – нужно ли его говорить.
Но комиссия увидела, что я молчу, и спросила меня:
– Почему ты молчишь, мальчик? Разве это сложный вопрос?
Ну, что должны делать маленькие люди? – и тогда я ответил:
– Расти большими…
Ранним утром двадцать второго июня тысяча шестьсот тридцать третьего года Генеральный комиссар римской инквизиции Винченсо Макузано бродил в окрестностях Рима, в районе Аппиевой дороги собирая лечебные травы.
Не смотря на то, что утро самого длинного в году дня еще только наступило, было уже довольно жарко, и отец Винченсо поминутно отирал пот с высокого лба большим полотняным платком, хранившимся в бездонном нагрудном кармане его рабочей рясы.
Время от времени священник останавливался, пристально вглядываясь в вокруг остатков древней каменной кладки, иногда нагибался, чтобы лучше рассмотреть какую-нибудь травинку, но, так и не сорвав ее, продолжал свой путь, с разочарованным вздохом похлопывая холщовую дорожную сумку, на дне которой одиноко маялся единственный сморщенный корешок.
– Это дерьмо, – бормотал отец Винченсо, при этом осеняя себя крестным знамением, – Это дерьмо…
Уже подумывая о возвращении и беспокойно оглядываясь на поднимавшееся за его спиной солнце, святой отец поравнялся с двумя стражниками, закусывавшими сыром и черствым хлебом сидя на придорожном камне.
– Мир вам, дети мои, – проговорил Генеральный комиссар, протягивая босоногим людям руку для поцелуя жестом, присущим скорее провинциальному церковнику, нежели человеку, едва не превосходящему своим влиянием самого Первосвященника.
Ознакомительная версия.