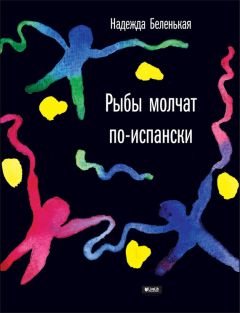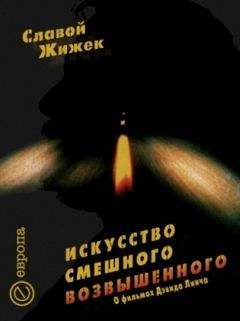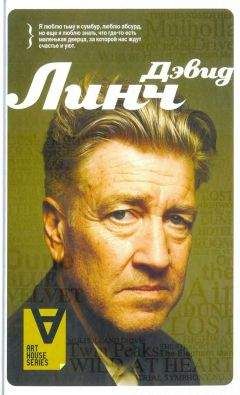Ознакомительная версия.
– Ну вообще, – проговорила Нина. – Просто с трудом верится. Так вот почему ты тогда исчезла! Мы ведь даже не попрощались, когда ты уезжала. И про Екатеринбург я ничего толком не знала. Знала только, что ты устроилась работать. А свадьба у вас была?
– Свадьбы никакой, – ответила Рита. – Не до нее было. Расписались по-быстрому. Если бы была, мы бы тебя первым делом пригласили.
– Спасибо, – улыбнулась Нина.
Вскипел чайник. Нина вытряхнула остатки старого чая и заварила новый, который принесла с собой Рита: всамделишный улун, купленный в китайском квартале Нью-Йорка.
– Вот это да, – воскликнула Нина, сделав глоток. – У нас такого не достать.
– Ну не знаю, – Рита взяла с тарелки пастилу. – По-моему, у вас уже все можно достать. Вот, например, пастила. Дешево и сердито. А у нас хоть весь город обойди, такую не найдешь. Настоящая, московская. Здесь теперь главное – иметь побольше денег. Кстати: ты ведь, наверное, неплохо теперь зарабатываешь, а? Усыновления – это тебе не университет.
– Пожалуй, – неохотно согласилась Нина.
Ей не хотелось говорить о работе. Куда интереснее было еще расспросить Риту про ее замужество, о котором Нина, оказывается, ничего не знала.
– Усыновления – это золотое дно, – продолжала тем временем Рита, доставая еще один кусочек пастилы. – Если только нервы у тебя крепкие.
– Ты имеешь в виду больных детей?
– Я имею в виду дельцов, которые рыскают по регионам. Жадны до невозможности, испанцев при мне буквально до нитки раздевали. Любая работа накладывает отпечаток, а такая просто уродует.
– Это почему же? – насторожилась Нина.
– Потому что у этих людей неограниченная власть… Испанцы, когда сюда приезжают, попадают к ним в лапы и полностью от них зависят. Хочешь – цену задирай, хочешь – за каждый чих бери лишнюю сотню евро, хочешь – в избу сели. Между прочим, с американцами такие штуки не проделаешь, сразу взбрыкнут.
– А кто занимается этим на Урале? – осторожно спросила Нина. – Я слышала, чуть ли не половина иностранцев едут туда усыновлять.
– Раньше ехали, теперь не знаю. Уралом и Сибирью управляют несколько крупных воротил. Самый заметный – Вадим: у него в месяц до тридцати усыновлений выходит.
– Не может быть! – воскликнула Нина. – Это невозможно.
– Возможно, представь себе. Теперь вообрази, сколько через него денег проходит – чуть ли не полмиллиона евро ежемесячно. У него и в других регионах посредники имеются.
– А остальные? Один Вадим не может справиться с таким потоком.
– Ясное дело, не может. Не может, но очень хочет. Вадим – монополист. Его люди всех детей норовят под себя подгрести. А другим посредникам это не нравится, и они с ним пытаются бороться.
– Ничего себе! А как?
– Да по-всякому. Один раз машину сожгли… Новую, он ее только-только купил. Сгорела до основания, один кузов черный остался. Милиция так и не выяснила, чьих это рук дело. В другой раз организовали настоящее покушение…
– Хотели убить?
– Вряд ли… Скорее, просто напугать… А может, кого-то он так достал, что его правда замочить решили. Он же людям работать не давал, кое-кто его за это ненавидел. Зато с той поры он без личной охраны из дому ни ногой. Со стороны посмотришь – прямо министр образования. А на самом деле аферист, вор в законе. Зато с чиновниками на короткой ноге. Все кабинеты перед ним открыты, даже в Москве. В министерство образования как к себе домой заходит, дверь ногой открывает.
– А ты лично с ним общалась? – спросила Нина.
– Нет, конечно… Ни разу даже не видела. Вадим – это где-то за облаками, нас туда никто не приглашал. Я работала с Кирой, мелкой посредницей, которая была при нем… Таких в Ебурге десяток, не меньше. Кира намекала, что Вадим тоже на кого-то работает, но кто над ним – это никому не известно. Скорее всего, какое-нибудь московское начальство, которое контролирует усыновительный бизнес по всей России. Существует, вроде бы, мифическая Эвелина, которая этого Вадима когда-то сама выучила и отдала ему Сибирь…
Они помолчали. Рита достала еще одну сигарету и поднесла кончик к самому краешку фиолетового цветка старой газовой конфорки.
– Значит, труднее всего было с посредниками?
– Честно сказать, точно уже не помню. Все вместе было невыносимо. Есть в этой работе что-то такое, от чего потом долго тошнит. Все эти поломанные судьбы, зверства, изнасилования, брошенные дети – и на этом ловкие люди делают себе состояние, а мелочь всякая возле них кормится, получает свою небольшую тепленькую денежку…
Рита глубоко затянулась и выпустила струйку дыма.
Нина слышала, как щелкнул замок входной двери: пришла мать.
Ей не хотелось, чтобы Зоя Алексеевна сидела с ними на кухне. Пришлось бы прервать важный и интересный разговор. Она собрала на поднос чайник, чашки, пастилу и сыр – привычка пользоваться подносом перешла к ней от Ксении – и отнесла все это к себе в комнату. Рита послушно устремилась следом.
– А как ты думаешь, – спросила Нина, снимая с журнального столика факсовый аппарат и ставя на его место поднос, – все эти ужасы, которые происходят с детьми, – следствие какого-то общего явления? Может, всему виной жестокость? Жестокость как национальная черта русских?
– Вряд ли. – Рита аккуратно погасила сигарету и положила окурок в пепельницу. – Все дело в равнодушии. Равнодушие как национальная черта русских, я бы так сказала.
– А я считала, что у нас люди душевные, участливые, – возразила Нина.
– Наверное, это и есть та самая загадка русской души, – Рита усмехнулась. – Участливые и равнодушные одновременно.
– Может быть… И все же какая разница между жестокостью и равнодушием? Результат-то один.
– Правильно, один. Но жестокость существует повсюду. Где угодно, в любой стране. Причинять страдание сознательно – это патология, болезнь. Но ведь здесь страданий никто никому не причиняет. В смысле, не причиняет сознательно. Мать, которая бросала детей одних в доме и уходила пить в соседний дом, – был у меня, помнится, такой случай. Она никого не истязала, не мучила, просто в гости ходила – и пропадала на несколько дней. Дети сидели за дверью, дверь была заперта. У них не было ничего – ни одежды, ни обуви, ни постельного белья. Но главное, не было никакой еды, вообще никакой. Мать забывала оставить. В твоей работе такое тоже наверняка случалось, разве нет?
– Случалось. Продолжай.
– Двое детей, младшие, умерли от голода, третий теперь живет в Испании. Причем тут жестокость?
– Пожалуй, ни при чем.
– Или вот пример из русской литературы… Откуда точно, не помню. Кажется, из Мариенгофа. У одного мужика, сапожника, умерла жена. Дело было в смутное время после революции – кругом хаос, война, голод. Сапожник этот остался вдовцом с пятилетним сыном-дурачком на руках. С таким, про которого в усыновительной практике сказали бы «задержка умственного развития». Мужику мальчишка был совершенно ни к чему… Пытался устроить его в детский дом – не взяли. Потом ходил еще куда-то, тоже безрезультатно. А потом придумал: купил два билета, кажется, в Дмитров, сел с сыном в поезд, а на одной из остановок незаметно сошел и вернулся в Москву… А мальчишка поехал себе дальше. Мужик, наверное, вздохнул с облегчением.
– А может, и не вздохнул, кто знает? – пробормотала Нина. – Может, терзался потом всю жизнь. Пил с горя.
– Может, и пил. Этого никто никогда не узнает. Типичный наш с тобой случай, Ниночка. И таких не счесть.
– Не счесть, – эхом отозвалась Нина. – И жестокость тут ни при чем, ты права.
– А вот другой пример, – продолжала Рита. – Дело было, когда я еще в Ебурге работала… В доме ребенка социальный педагог рассказал. Мать бросила новорожденную дочку в мусоропровод. Родила ее в квартире, вынесла на лестницу – и бросила. Девочка упала, но не разбилась. Жива осталась. Этаж невысокий был, второй что ли… Так мать на этом не остановилась. Когда поняла, что дочка все еще жива, стала ее забрасывать сверху горящими газетами. Комкала, поджигала, бросала вниз. Чтобы в мусоропроводе начался пожар и девочка сгорела. Кто-то услышал крики, ее вытащили. Может, и раньше слышали, но из теплой квартиры на холод вылезать было неохота… А у девочки к тому времени обгорела вся кожа.
– Выжила?
– Умерла.
Они помолчали. Рита снова достала сигарету: на этот раз движения ее были порывистые, злые.
– У нас равнодушие, да… Равнодушие матери, которой надо сжечь девчонку, чтобы под ногами не мешалась. Равнодушие соседей по лестничной площадке, которые не вышли, услышав детские крики… Пофигизм, понимаешь? В нем все дело… Однажды, я тогда еще в Москве жила, моя сестра отправилась куда-то беременная. Перед Новым годом поперлась в центр, дурында. До родов оставалось меньше месяца, а она хотела мужу подарок купить, вот и понесло ее. Выходит из метро, поднимается по лестнице, а наверху сплошной лед. Поскользнулась и упала. Лежит у самого выхода из метро. Барахтается, а подняться не может – пузо мешает, да еще скользко. Только с боку на бок перекатывается. А кругом народу полно, половина пятого вечера. И никто, ни один человек ей не помог. Тогда она отползла в сторону и кое-как встала, цепляясь за парапет. Плакала – не от боли, а от унижения… От страха, что с ней такое могло произойти. И где? В центре города, в котором она прожила много лет. Когда наконец поднялась на ноги, вытащила телефон и позвонила мне. Мужу не стала звонить – стыдно было. А мне позвонила и рыдала в трубку… Не представляю такое где-то в другой стране. В Испании, в Штатах… В тех странах, где мне доводилось бывать. Кажется, как раз тогда что-то со мной произошло, какой-то надлом, захотелось уехать навсегда. Не для себя, для будущих детей, они ведь у нас с Хавьером обязательно будут… А я же всегда патриоткой была, помнишь?
Ознакомительная версия.