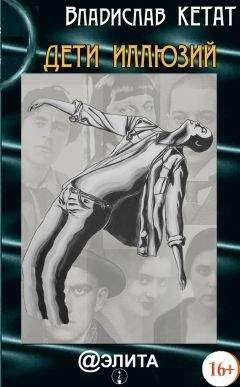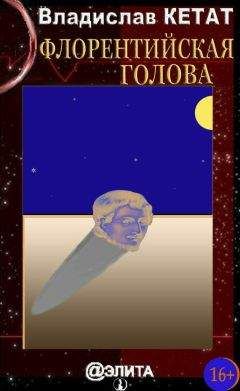Ознакомительная версия.
– Пей, – сказала Светка, поставив передо мной чашку с дымящим, как пароходная труба, кофе.
Я выпил.
– Ешь, – сказала она, протягивая мне невесть откуда взявшийся бутерброд с сыром.
Я съел.
– Теперь в душ, – и Светка, мягко взяв меня под локоток, словно ребёнка проводила до ванной.
– Горячей воды ещё неделю не будет, – робко попытался откосить я от этого дела.
– Это даже лучше, – сказала она голосом моей первой учительницы и втолкнула меня внутрь.
Когда я, мокрый и практически трезвый, вышел из ванной, Светка была уже готова. Она возлежала на моей кровати голая в позе Энгровской одалиски, в очередной раз представив пред мои очи свой беспроигрышный зад. Несмотря на это, я успел про себя отметить, что, пока я честно плескался под ледяной водой (что на общажной фене цинично называется «Карбышевкой»), моя бывшая успела похозяйничать и в комнате: расстелила постель, предварительно куда-то убрав лежавшие на ней вещи, распахнула окно и накинула газовый шарфик, в котором пришла, на торшер, создав уместный в этих случаях интим. Сказав заветное: «Эни-бени-раба» и мысленно щёлкнув хвостом, я пошёл в наступление.
Годы супружества, несомненно, пошли Светке на пользу. Она стала раскованнее (хотя она и раньше-то не отличалась особой зажатостью) но, главное, горячее. Она приняла меня в свои объятья так, словно провела восемь лет в женской колонии и избегала там лесбийской любви. Я был удивлён, даже шокирован, и при этом растроган. Можете надо мной смеяться, но по ощущениям это было, как возвращение домой. После восьми лет колонии.
Когда первый голод был утолён, я стал замечать, что её тело, знакомое мне от пяток до макушки, увы, претерпело-таки некоторые изменения. Её груди стали полнее, на боках и животе появились лишние складки, а на ягодицах – растяжки. Но запах, запах её кожи, в которую я впивался губами, остался прежним. Так что, закрыв глаза, можно было представить, что мы с ней там, в нашем счастливом прошлом. Что я и делал.
– У тебя есть резинка? – спросила Светка, когда пришло время.
– Боюсь, что нет, – честно признался я, целуя её за ухом, – не люблю я это дело, ты же знаешь…
– Эх ты, Казанова, хренов… – и Светка достала из сумочки, которая, оказывается, лежала рядом с кроватью, хрустящий квадратный пакетик, напомнивший мне давешнюю гетеру.
Дальше был секс.
– Сержику предложили место начальника филиала его банка в Питере, – сказала Светка, после того как застегнула-таки чёрный ажурный бюстгальтер, который был ей, мягко говоря, маловат. Её белые груди тестом поднялись при этом над чашками и чуть не выпрыгнули наружу.
– Успехов в труде, – ответил я, с трудом оторвав взгляд от.
Светка продела руки в рукава блузки и запахнулась.
– Ты не понял: я не хочу с ним ехать. Короче, мы пока будем жить раздельно.
Я уселся на кровати по-турецки и закурил.
– И чего теперь? – глядя на дым, уходящий в темноту за окном, спросил я.
Светка начала сосредоточенно застёгивать маленькие пуговки на блузке:
– А ничего теперь. Мы с тобой теперь любовники, вот чего.
Сказав это, она встала и устало потянулась. Потом подошла к журнальному столику, на котором стоял допотопный хозяйский телефон, и сняла трубку. Её длинный палец семь раз крутанул жужжащий диск номеронабирателя. В таком виде и при том освещении она была похожа на героиню из фильмов стиля «Нуар». Ещё бы ей сигарету. Без фильтра.
– Пожалуйста, такси по городу, – сказала она в трубку, качнув локоном. – Адрес?
Светка закрыла ладонью микрофон и повернулась ко мне.
– Какой здесь адрес?
– Кооперативная семь, – ответил я и, не знаю, зачем, добавил: – Останься.
Ответом мне был полный недоумения взгляд.
Когда за женщиной из моей прошлой жизни захлопнулась дверь ржавой «шестёрки», ведомой уроженцем одной из закавказских республик, я поднялся к себе, сел за письменный стол, схватил ручку и на оборотной стороне листов с собственным романом написал:
«Тридцать седьмой апрель или Владимир и Вероника»
Идея, дремавшая где-то внутри и поднятая на поверхность водоворотом произошедшего, просилась на бумагу. Мне вдруг стало кристально ясно, как должен был чувствовать себя кит, из спины которого торчало миллион гарпунов и миллион миллионов маленьких гарпунчиков.
С трудом поспевая за мыслью, я строчил строку за строкой, боясь даже отойти в туалет. Пепельница очень скоро стала похожа на ежа, который вместо яблок стал собирать окурки. Из творческого «Брусиловского» прорыва меня вырвал подаренный мне родителями на день рождения электронный будильник. Моргающий жидкокристаллическими глазищами, он неприлично громко запиликал сороковую симфонию Моцарта. От неожиданности я выронил недокуренную сигарету прямо на исписанный лист, засыпав пеплом финальный диалог. Это подействовало отрезвляюще. Я потушил сигарету и огляделся. В открытое ещё Светкой окно шпарило утро, в воздухе висели полотнища дыма, а прямо передо мной, на столе, наблюдался писательский натюрморт: переполненная пепельница и с десяток исписанных мелким почерком листов вокруг. Я взял в руки последний, прожжённый.
– Остаётся только написать слово «Занавес», – сказал я вслух, перечитав написанное, будто бы и не мной вовсе.
Что я и тут же сделал.
А похмелья, кстати, не было.
Сработанный из какого-то сероватого камня, похожий, скорее, на школьника, чем на тридцатитрёхлетнего мужчину, пустыми глазницами смотрит распятый спаситель на небольшое круглое окошечко в стене, из которого на него падает узкий луч яркого солнечного света. У его ног, согнутые волей скульптора в три погибели, стоят две фигуры – мужская и женская. Мужчина (скорее, старик) чем-то напоминает обессиленного Дарвина, а женщина – молодую Валентину Толкунову. Между ними, прямо из покрытого кафельной плиткой пола, растёт деревянный крест, на котором и висит сын человеческий.
Чем дольше я смотрю на эту скульптурную композицию, тем больше убеждаюсь, что она мне нравится. Серьёзно. Только мне видится в ней совсем не персонаж из далёкого пошлого, именем которого творились и творятся самые жуткие на свете преступления, а кто-то совсем другой, из нашего времени, кто-то знакомый. Мне представляется мой ровесник, за какие-то грехи подвешенный в подвале бандитами, который в последний раз через маленькое грязное окошко видит солнце. А снизу – его родители, которые ждут сына дома и никогда уже не дождутся.
«О чём он мог думать в тот момент? – пытаюсь сообразить я. – Кого вспоминал? Какому богу молился? Было ли ему страшно, или уже нет…»
Писклявый голос справа возвращает меня в реальность.
– Помнишь, поп говорил, что луч света – на самом деле святой дух? – существенно громче, чем принято делать в церкви, обращается длинноногая, местами блондинистая дама с платком на шиньоне к своему спутнику, чья бритая голова, минуя шею, переходит сразу в пиджак.
– И, чё? – отзывается тот.
– Я только сейчас догнала… – ещё громче поясняет дама, – прикольно…
– И, чё? – мычит мужик. – В чём прикол?
– Да сама, блин, не знаю… – инфантильно пожимает плечиками блондинка, – просто, прикольно…
Мы с Татьяной переглядываемся со значением: верующие, ничего не скажешь. От этой парочки нас отделяет ещё двое таких же набожных прихожан – маленький пузатый хмырь и высокая грудастая шмара в длинном облегающем платье. Мне невольно вспоминается Востоковский спич о новой популяции женщин. С высоты своего роста начинаю изучать всех имеющихся в церкви дам при соответствующих спутниках, и – о чудо! – нахожу минимум три подходящих под игореву формулу.
«Значит, не врал, курилка, – думаю я, – жалко, что я не дослушал тогда про искусственные сиськи…»
– Смотри, неправильно крестится, – отрывает меня от мыслей Татьяна, показывая на ближайшего к нам хмыря, – нужно справа налево.
– Ты-то откуда знаешь? – удивляюсь я.
– Врага надо знать в лицо, – отвечает она, – опять же, помогает затеряться в толпе.
– Может, ты ещё и какую-нибудь молитву знаешь?
– Конечно, «Отче наш». Хочешь, прочитаю?
– Нет, спасибо, в другой раз…
Между тем у скульптурного изображения Серафима с родителями продолжается священнодействие: состоящий из разнокалиберных старушек хор «а капелла» берёт высокие ноты, а художественный руководитель – отец Матвей – прохаживается вдоль строя и дирижирует кадилом. Делает он это весьма своеобразно, чуть покачиваясь в такт одному ему известному ритму.
Курящийся над кадилом дым и манера двигаться главного действующего лица вызывает у меня непроизвольные ассоциации с концертами популярных исполнителей восьмидесятых, когда все дёргались, и всё было в дыму. Возможно, к этому меня подталкивает ещё и интерьер, больше похожий на магазинный, чем на церковный – пластик, кафель, сайдинг – и лубочного вида иконы на стенах.
Ознакомительная версия.