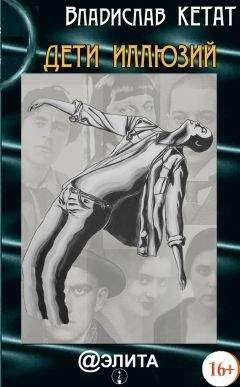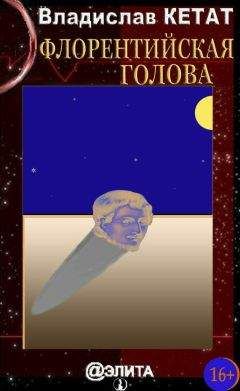Ознакомительная версия.
– На хле-е-ебушек… – следом даёт петуха второй.
– Шли б вы работать, – отвернувшись в сторону, и для верности поглубже заправив руки в рукава куртки, говорит Татьяна.
– Дай бог вам доброго здоровичка, – неискренне откликаются всё ещё бьющие поклоны «нищие».
– Зря ты так, – тихо говорит Панк Петров, когда мы отходим подальше, – эти могут и бока намять. Серьёзные ребята, они сюда из Пушкино на личном транспорте приезжают.
Оборачиваюсь: «нищие», забыв о нашем существовании, продолжают свои разборки; до нас долетают лишь обрывки их заковыристых матюгов.
– Пойдёмте, покажу короткую дорогу до станции, – предлагает Панк Петров, указывая на уходящую серой ленточкой в лес тропинку, – сэкономим минут десять.
Сворачиваем с дорожки, по которой шли, вправо, и над нашими головами тут же смыкаются шелестящие зелёные ладони. Жара и духота остаются позади, нас окутывает прохлада и ворох лесных ароматов.
– В этом и есть прелесть Подмосковья, – восхищённо вздыхает Татьяна, – шаг в сторону, и ты в лесу!
– Это точно. Только вот сколько из этой прелести добираться до столицы нашей родины, – ворчу я.
– Какой же ты, Лерик, зануда! – не меняя интонации, говорит она. – Смотри, какая вокруг красота!
Не разделяя её энтузиазма, молчу.
– Да, тем, кто вырос в мегаполисе, у нас нравится, – включается в беседу Панк Петров, – но выросшим здесь почему-то ближе кирпичные джунгли.
– А ты что скажешь? – дёргает меня за рукав Татьяна. – Тебе где больше нравится: на исторической родине или в городе-геморрое?
– Да мне везде хорошо, – отвечаю я, – и в Москве, и за городом. Не знаю только, смог бы я жить в Москве постоянно. На мой вкус, там слишком много народу и все куда-то бегут. Это немного раздражает.
– Меня тоже, – подтверждает Панк Петров, – но это проклятье большого города. Там есть свой ритм, которому все следуют. Я много раз замечал за собой, что, когда приезжаю в Москву, начинаю быстрее двигаться, будто попадаю на старую киноплёнку.
Татьяна улыбается – видимо, аналогия ей понравилась.
– У нас в Москве такой дёрганый народ, потому что очень шумно, – глубоко вздохнув, говорит она, – шумно в метро, шумно на улицах, даже из телевизора несётся один сплошной шум. Никакой тишины. А здесь у вас тихо, спокойно. И люди приветливые… не все, конечно.
– Неприветливыми они становятся после внутренней иммиграции в Москву, – замечает Панк Петров.
– В смысле? – не понимает Татьяна.
– В прямом. Москва портит. Говорят, после переезда в столицу человек теряет ум, честь и совесть одновременно.
Татьяна внимательно всматривается в собеседника, словно пытаясь понять, шутит он или нет.
– Это в людях говорит зависть, – заявляет она, – хотя доля правды тут есть. Жизнь в кирпичных джунглях действительно меняет людей, и не всегда к лучшему. Но это, знаешь ли, проблема людей, а не города. Рождённые в столице, коренные её жители, в большинстве своём являются людьми спокойными и уравновешенными.
Панк Петров нагло хмыкает:
– Рассмешила! Да будет тебе известно, что население Москвы давно состоит из одних иммигрантов, и ни о каких коренных москвичах говорить не приходится! И кто они вообще такие? Коренные зубы – знаю, коренные лошади – тоже знаю, коренные москвичи – не знаю!
Мне совершенно непонятен тон его выступления, но более всего меня удивляет, почему слово «коренные» Олег произнёс грассируя. Вроде бы ранее в антисемитизме наш товарищ замечен не был. Татьяну, кажется, это тоже возмущает. Она поворачивается к оратору всем телом в намерении истребить того вербально, скрестив на груди руки, что очень нехороший признак, уж поверьте.
– Поясню, – с обычным для себя апломбом, но очень спокойно произносит она. – Упомянутые ранее уроженцы подмосковных деревень рвутся в Москву, поскольку проживание в столице, по их мнению, является показателем богатства и социального статуса. Всеми правдами и неправдами они пытаются там зацепиться и пустить корни, а, таки зацепившись, начинают искать способы возвращения на родину: строить за городом дачи, возделывать жалкие клочки скупой подмосковной земли… но если их спросить, зачем им всё это надо, они, чаще всего, не знают, что ответить.
Татьяна делает небольшую паузу, что на преподавательском сленге называется: «чтобы осело».
– Это называется: «генетическая память», – продолжает она, – как осетры, которые всегда возвращаются на нерест в то место, где родились, так дети и внуки колхозников с упорством маньяков тянутся к земле. Только те жители столицы, которые за много поколений данную память утратили, и не испытывают потребности в бесцельном ковырянии грязи по выходным, и есть коренные москвичи. Это обычно происходит через три-четыре поколения проживания в столице. Я доступно изложила?
Панк Петров заходится оскорбительным смехом:
– Доступнее некуда! Что-то мне подсказывает, что с одной из представительниц этой популяции я сейчас и общаюсь!
– Я не имею в виду себя, – спокойно парирует Татьяна, – мои дед с бабушкой приехали в Москву из Новосибирска относительно недавно – перед самой войной – но, поверь мне, такие люди есть, и их много. А если уж разговор зашёл на эту тему, я лично ничего не имею против понаехавших, пока они не посягают на моё личное пространство, но, честно говоря, лучше бы их было поменьше.
– Чем меньше в столице говна, тем лучше площадь Красная видна? – с вызовом вопрошает Панк Петров.
– Ну, примерно. – Татьяна по-мужски сплёвывает в траву. – Да, и ещё: мы не евреи.
Панк Петров бросает в Татьяну сложный взгляд из сощуренных глаз. Татьяна делает вид, что ничего не замечает. Жестом – двумя приложенными к губам пальцами – она просит меня дать ей сигарету. Лезу в карман, но нахожу там только пустую пачку. Видя моё замешательство, Олег протягивает Татьяне раскрытый дедов портсигар с отчеканенной на крышке баллистической ракетой, которым можно запросто кого-нибудь убить или серьёзно покалечить.
– Прошу.
Татьяна ловко выковыривает из плотного строя крайнюю сигаретку и, зажав её между пальцами, поднимает глаза на Олега:
– Угостите даму спичкой.
В поисках зажигалки Олег начинает комично хлопать себя по карманам, будто исполняя народный танец – вот-вот вприсядку пустится. Татьяна наблюдает за всем этим со снисходительной улыбкой, сквозь которую просматривается внимание к происходящему. Наконец, зажигалка находится, и Олег подносит её к Татьяниной сигарете, одновременно щелкая кремнём и пытаясь добыть огонь.
Пока он возится с зажигалкой, мне в голову залетает мысль о том, что между ним и Татьяной только что произошёл вовсе не обмен ругательствами, а случилось нечто большее – то, что на театральной и киношной фене называется: «химия», проще говоря, ситуация, когда люди начинают испытывать друг к другу интерес. Но открытие это меня почему-то не тревожит.
«Что с того, что им приятно друг с другом общаться», – думаю я.
Я заметил это ещё в прошлый раз, когда мы были у Олега зимой. Тогда у них тоже случилась содержательная ругань об искусстве, из которой мне запомнилась вольная цитата классика, сказанная Олегом в сердцах: «Это не мы в искусстве, а искусство в нас…» Имелось в виду то, что потребность в творчестве даётся свыше и, словно паразит, поселяется в человеке, заставляя его тратить жизненные силы на создание того, что нельзя съесть или выпить, но что радует глаз или ласкает слух, т. е. предметов искусства. При этом она, эта потребность, не умирает вместе с человеком, как обычный паразит, а передаётся другим людям посредством этих самых предметов.
Татьяна была, естественно, против. По её мнению, наша склонность творить является всего-навсего побочным эффектом инстинкта размножения, и ничего божественного в этом нет и быть не может. В завершение она также вольно процитировала классика, только другого: «Нет человека, нет и искусства».
Кстати, об искусстве…
– Скажи, сколько ты можешь нам дать скульптур без ущерба для себя? – озвучиваю я наконец настоящую причину нашего визита, и, хотя я практически уверен, что Олег нам не откажет, чувствую при этом лёгкую неловкость.
В ответ мой друг молчит с задумчивым выражением лица. Со стороны кажется, будто он производит в уме какие-то сложные вычисления.
– Насколько я понимаю режиссёрский замысел, – продолжаю я, – их непременно должно быть больше одной, так как они должны символизировать прошлых женщин поэта. Лучше, чтобы их было штучки три-четыре, а лучше всего, пять…
Панк Петров продолжает молчать. Неожиданно задумчивость на его лице обращается злобой.
– Знаете что, – говорит он тихо, – а я не дам вам ни одной.
Мы с Татьяной смотрим сначала друг на друга, а потом на него с нескрываемым удивлением.
Ознакомительная версия.