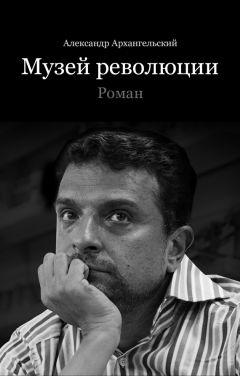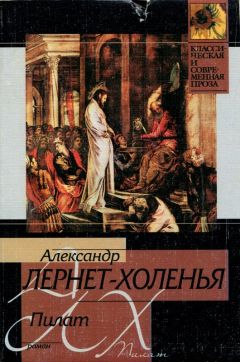Так он просидел полчаса; кавказское семейство искупало бабушку, прикрывшись шторкой из помятых простынь; был слышен плеск отжимаемой губки, на пол шлепалась пена. Сидел, сидел, и вдруг понял, что больше не может. Скука прорастала в нем, как внутренний грибок на старой кладке. Он понимал, конечно, что так нехорошо, что это его жена, что ей сейчас очень плохо, и она, скорее всего, чувствует его присутствие, и хоть не так боится смерти. Но от понимания было не легче; что он может сделать, если скучно? Глаза закрываются, клонит в сон, хочется скорей уйти.
К счастью, вскоре появилась дежурная медсестра:
– Здравствуйте, граждане больные и посетители… Приемные часы закончились!
Ну слава Богу, наконец-то. Появился красивый повод разжать руку, вынуть Валину ладонь, и аккуратно положить на смятую простынь.
– Девушка… дама… вас можно? На минуточку.
– Можно, но давайте выйдем в коридор, чтобы не мешать.
В коридоре, с усталым видом все понимающего благодетеля, она спросила:
– Что вам? – И, как бы подводя его к решению, добавила: – Больная ваша тяжелая, нужен отдельный уход.
– Да, я понимаю, сколько?
– Везде одинаково. Тысяча в сутки.
– На неделю вперед я оставлю?
– На неделю? Не уверена, что это правильно.
До Шомера дошло, что он сказал сейчас нехорошо. Как будто бы не хочет появляться у жены. Но медсестра имела в виду другое:
– Ладно, передам по сменам – в случае чего они вернут.
Он засуетился, вынул новенькую пятитысячную (лучше по тысяче), стал предлагать отдельных денег на лекарства, словно откупаясь от судьбы и не желая признавать, что дело кончено.
Медсестра приняла дополнительный взнос, снова повторив, что в случае чего не пропадет, тут все у них по-честному.
Сезон еще не наступил, он был единственным двурогим на забитой скользкой трассе. Гордые водители машин пропускать мотоцикл не хотели, бибикали, даже пришлось оттолкнуться рукой от чужого капота. Но все же Шомер кое-как добрался до дому.
Парадная была закрыта, ко́да он не помнил, а магнитный ключ не взял. Пришлось звонить соседке Нонне, а значит – навещать ее и слушать за долгим разжиженным чаем, как Валюшка сидела напротив, зайчик наш, и… (но Шомер пропускал мимо ушей все сложносочиненные конструкции, включаясь только на конкретных фактах) … и вдруг напряглась, откинулась на спинку, ручки сжала в кулачки, взгляд у нее остановился, и она описялась, Нонна все, конечно, подтерла, как только приехала «Скорая», пришлось им дать 500 рублей.
Шомер вынул тысячу, и пошел к себе. Он уже постелил на диване и собирался принимать вечерний душ, когда ему ответно позвонили из приемной Ивана Саркисовича. Шомер глянул на часы: 23. 17; ничего себе у них работка, долгая.
– Что там опять у вас?
Иван Саркисович был не в духе и не собирался этого скрывать. И вообще, как только Шомер подписал газетное письмо, отношение к нему переменилось; интонация полупрезрительна, никаких философских пассажей. Как будто Шомер должен был артачиться и возражать, и его заранее за это уважали, но директор испытания не выдержал и переведен на положение обслуги.
Теодор доложился по-армейски, кратко. Иван Саркисович ответил тоже односложно.
– Ждите, я перезвоню.
Через десять минут объявился. Был он еще возмущенней; говорил рывками, голос погрохатывал. Так разговаривает с подчиненными начальник управления, которому министр устроил полноценный втык.
– Так. Мы с вами о чем договаривались?
– Что вы поможете… ситуация…
– Я помог?
– Помогли. Но…
– И никакого но. Я – вам – помог. И еще помогу, если, так сказать успею… Вам. Конкретно. Но если вы, Теодор Казимирович, решили, что я приставлен ко всяким заштатным музеям и буду влезать в их проблемы, то вы глубоко заблуждаетесь. Мне, поверьте, есть чем заняться. У меня тут есть проблемы посерьезней. Вы меня, надеюсь, поняли?
– Понял.
– Хорошо, коли так. Мои сотрудники подъедут к вам в конце мая. Или уже не мои… но увидим. Готовьте, Шомер, юбилейную программу. До встречи.
И, не отключаясь, закричал в другую трубку:
– А я вам говорю, разжалуем! Вы что, решили проиграть, не начиная? Это предательство? Ах, нет, а что тогда?
Тут секретарша вспомнила про кнопку, и в ухо сладко заурчал Армстронг.
Рано утром, не было еще восьми, Теодору позвонили из больницы. Дежурный женский голос сообщил о смерти пациентки Водолазовой В. М., возраст 69 лет, пенсионерка, и заученно предупредил: если родственники против вскрытия, надлежит составить заявление и подписать его у заместителя главврача, сегодня, до 15 часов. Нет, перенести нельзя. Нет, это ваше дело, а не наше. Нет, я сказала же нет.
Он никаких иллюзий не испытывал; все понял сразу, в первую секунду, как только увидел Валю на больничной койке в беспомощно задранной желтой ночнушке. И все же сердце лихорадочно забилось, щеки вспыхнули, Теодор засуетился, зачем-то начал искать Валин паспорт, хотя прекрасно знал, что все документы в больнице, бросился на кухню, заварил себе черно-чифирного чаю, сделал глоток и отставил, сбегал к почтовому ящику, проверил ненужную почту. Что же. Значит, Вали больше нет. Вынули, как рыбку из аквариума. Сачок спустили, раз, и нету.
Так. Заявление нужно до трех. Но через полчаса прибудет самолет с комиссией из министерства, лишь к двенадцати они доедут до усадьбы. Встречать их обязан директор. Что бы ни случилось. Лично. Но ведь и вскрытия он допустить не может. Как бы их жизнь ни сложилась, а молодую Валентину он любил, и это плотное родное тело потрошить врачам не даст. Пришлось переступать через себя, звонить ее сестре, с которой Шомер не общался с 90-х, да и Валентина тоже не встречалась. По крайней мере, он об этом ничего не знал. А у сестры имелись сыновья, стало быть, его племянники, которых он практически не видел, а у племянников есть жены, дети… все грозило превратиться в ной и слезы, ненавистные пустые разговоры за изобильным прощальным столом. Ну, как полагается, не чокаясь. Дай Бог ей Царствия Небесного. А помнишь, как покойная… Нет, ничего не помню. И помнить – вместе с тобой – не хочу.
– Галина? Это Теодор. Да-да. Ты молодец, узнала. Галина, у меня плохая новость. Да. Да. Она. Что говоришь? Был инсульт. Да. Ну прости. Думал, как-то обойдется, – тут ему пришлось соврать, – но вот видишь… Ты права, я должен был тебя сказать. Да. Я виноват. Не плачь, пожалуйста.
Отрыдав положенное, Галина согласилась взять больницу на себя. Но тут же что-то посчитала в голове и охнула.
– А похоронить на третий день не выйдет. Придется сдвигать на четвертый.
На законный вопрос, почему, золовка ответила кратко:
– Потому что это пятница, Страстная.
– Ну так и что?
– А то, что в воскресенье Пасха.
– И? Ты объясни по-человечески.
Галина гордым голосом сказала Теодору, что Святая Церковь никого не отпевает в пасхальное Святое Воскресенье. А без этого не обойтись? Валя в церковь не ходила, разве что красила яйца, пекла куличи, никак нельзя без дополнительных обрядов?
– Теодор, нет, послушай меня, нельзя так делать, ты не прав. Она была крещеная… и что с того, что ты еврей? Сначала в церковь, а оттуда сразу едем к нам, я позову соседку, вместе приготовим…
В итоге они сторговались: отпевание пройдет в его усадьбе и здесь же Валю похоронят, прямо в церковной ограде, – директор он, в конце концов, или не директор? Но никаких домашних посиделок, поминальный стол накроют в ресторане при его отеле.
– Так у тебя теперь отель?!
– Не совсем у меня, но, в общем есть.
Четыре дня пролетели мгновенно. В первой половине пятницы он поил-кормил и обихаживал комиссию, во второй выбегивал бумажку с разрешением похоронить жену в музейной зоне (пришлось тревожить лично губернатора); суббота ушла на ублажение начальника санэпидемстанции, без которого не то что мертвую жену, а усопшую собаку не схоронишь; в воскресенье вместе с поваром гостиницы он съездил на колхозный рынок, лично выбрал жирных индеек и уток, всяких разных солений, мочений и прочей поминальной радости. Продавщицы были сонные и полупьяные; на покупателей смотрели недовольно: могли бы и затариться заранее, так нет же, в светлый день озаботились земным хозяйством, а ты им стой, как дура, и торгуй.
Вернувшись с рынка, он зашел к отцу Борису. Тот, сонный и как будто бы слегка припухший, сидел в церковном садике, и тихо млел на теплом солнце. Зима была несправедливо долгая, в страстной четверг опять похолодало, небо вытряхнуло из себя последний снег, как вытряхивают мелочь до копейки, но в субботу утром выглянуло солнце и сразу наступила бурная весна.
Отец Борис смутился, как если бы его застали в неподобном виде:
– Теодор Казимирович, здравствуйте.
И, на миг запнувшись, подытожил:
– С праздником!
– Ничего, ничего, – проявил начальственное снисхождение директор. – Я к вашей пасхе ни причем, но и меня имеете право поздравить, как положено. Что называется, Христос Воскресе!