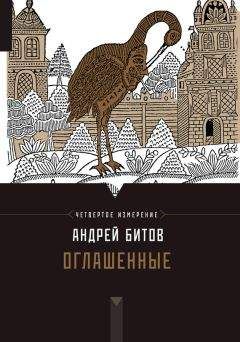Она отозвала меня в сторонку, у меня больше не было, но не для этого, оказывается, она меня отозвала. «Потерпи еще годик… Ты бы видел, как они сигали с Мавзолея! – Старушка отвернулась, застенчиво заворачивая смешок в платочек. – Очень уж смешно… Господи, прости!» Было ей видение: святой Георгий на белом коне на Красной площади. Ка-ак он на Мавзолей наехал, ка-ак пикой замахнулся… они все и попрыгали с трибуны кто куда, роняя шляпы. «Ты бы только их видел!..» – веселилась старушка, указывая на директора, загонявшего их с козою обратно в богадельню.
И мы ехали. «Рафик» преодолевал все более крутые серпантины. В прошлом году здесь выпал небывалый снег. Невозможно было проехать. Вот тогда и подмерзли хвосты – невозможно было оказать помощь. Чьи хвосты?.. А куда мы едем. А, так мы все-таки к обезьянам едем… Я не хотел к обезьянам. Он хотел. Почему меня не хватил инфаркт, пока он упражнялся с камнем?.. «Умер от тягот пути», – прекрасная эпитафия! Человека же два…
Тенистая, заросшая дорога вела нас вверх по ущелью. Слева глубоко под нами кипела река: нас достигал запах воды. Пахло прелым листом. Эти запахи мешались, рождая запах земли – только что разрытой. Камушки сыпались из-под колес, весело свергаясь в пропасть. У нас еще был шанс свергнуться за ними в эту свежую могилу. Но река была не для этого. Она была для того, чтобы отделить свободных обезьян от несвободных людей. Предыдущие опыты показали, что их нельзя селить в какой-либо близости от человека. Недокормленные обезьяны разоряли посевы, а крестьяне, естественно, их поубивали. Здесь река отделила их от людей, образовала им резервацию между собой и горами. Водобоязнь оградила обезьян от человека. Нет, не все обезьяны, но именно здесь живущие – водобоязненны.
Разговор сзади:
– Извините, конечно, пожалуйста, у вас сколько в языке букв Р?
– Что вы имеете в виду??
– Только букву Р.
– Ре… рэ… р-р-р… Кажется, три.
– Тогда наш язык древнее вашего: у нас – четыре.
Теория оказалась достаточно сомнительной, но не лишенной… Что буква Р – суть первый язык. И Драгамащенка подтвердил это, на примере своих обезьян.
– Тогда, значит, не более древний ваш язык, а более первобытный, – примирительно заключил Гививович, достаточно задетый тем, что у него на одну букву Р меньше. Хотя он, так и так, ощущал себя древнее, поскольку в предыдущем рождении был атлантический жрец. Это он помнил точно – как раз следующее воплощение было более смутным – но все равно в результате придерживался интернационализма. Этот вывод был у него замечательный: мы будем возрождаться друг в друге, пока каждая национальность не перебывает каждой! В какой последовательности?.. И Гививович брал реванш:
– Другие нации возрождаются как попало – кто-нибудь даже в эстонце. Одни армяне – только армянами.
– А евреи?
– О, евреи…
– А абхазы?
И опять разговор заходит за 1978 год… О, где начало того конца!..
«Вы получили свое телевидение? (Голос Валерия Гививовича.) Университет мы вам дали?» – «Вы? нам? дали? двадцать минут вы нам дали! один факультет вы нам дали! это мы взяли, а не вы дали!» – «Это мы дали, а не вы взяли!» Нестройный хор.
Чья земля?
Армянская прежде всего. Нет, грузинская. Нет, абхазская. Нет, греческая. Чья земля? – того, кто раньше, или того, кто позже? Мы переглядываемся с русским шофером: земля-то, конечно, русская.
Богобоязнь или география? Человеку не хватало естественных границ из гор, морей и рек, чтобы не перебить друг друга, – не хватит и церковных. Чья церковь?
Того, кто ее построил? того, на чьей земле она построена? того, чью веру здесь приняли? И опять: не то, что внутри нас…
И снова: чье царство было раньше? Чьей национальности царь или какой национальности его подданные? Тамара не была армянкой? Зачем вы армянский камень из Джвари вынули!..
Тоска… яко не оправдится пред тобою всяк живый. И паки рече: смирися и спасе мя. Сердце убо есть фарисей, иже не сохрани добродетели, но о исправлениях величается, и на ленивейшие возносится, невесть бо о себе писанного: не хвалитися, рече, не глаголите высокая в гордыни своей, ни да изыдет велеречие из уст ваших…
Мы остановились в очень красивой местности на берегу речки и стали выгружать ящики. Я уже, конечно, догадывался, что никаких обезьян не будет. Но никак не думал, что настолько. Что настолько их не будет, обезьян…
Нет, мы не сразу принялись за уничтожение содержимого наших картонок. Спектакль, поставленный Гививовичем для меня, еще не был окончен. Вчетвером, Гививович, альфа-самец, барабанщик и я, мы переправились через реку по канатной дороге. Люлька была рассчитана на одного, так что мы это и проделали четыре раза. Первым пошел альфа-самец, затем я. Было весело надевать рабочие рукавицы, перебирать ими по канату, смотреть с высоты вниз на буруны и водоворотики горной обезьяньей реки Водобоязнь. Конечно, страшно – я понимал обезьян. Они и близко к реке не подходили. Во всяком случае, когда я высадился, их там не оказалось. Все-таки я разволновался, если не от достижения конечной цели, то от достижения конечной точки. Я высадился на берег, и альфа-самец приветствовал меня звуками гонга. Гонгом была ржавая рельса, висевшая на удобном для того суку удобного для того дерева.
«Мы немного опоздали, – пояснил Драгамащенка. – Они нас ждали к часу».
Скепсис мой был оправдан. Возможно, обезьяны здесь когда-то были: дощатые домики вроде преувеличенных ульев, размером с пляжную кабинку, стояли в ряд, – но на каждой дверце висело по ржавому же замку. Длинная стойка тянулась перед домиками: не то высокая скамья, не то низкий столик, – совершенно пустая. Да, недаром все остались на берегу… они-то знали. Гививович не мог оставить меня одного, Драгамащенка был в курсе, а барабанщик, возможно, не был.
«Скорей, скорей!» – кричал Драгамащенка якобы ушедшим в лес обезьянам, а на самом деле поторапливал и тех, кто переправлялся следом, и тех, кто остался на том берегу заниматься главным, как впоследствии оказалось, делом.
«Скорей, скорей!» – кричал он противным голосом альфа-самца и бил в рельсу. Звуковые волны взбегали вверх по холмам и предгорьям, проникая в лес, беспокоя призрачных обезьян. Потом Драгамащенка уставал и закуривал. «Далеко ушли», – сокрушался он.
Он делал вид, что они обычно приходят к часу: авось привезут подкормку, – а если никого нет, уходят обратно пастись: желуди, орешки, корешки… «Ну да, грибы-ягоды…» – усмехнулся я. «Это летом, сейчас осень», – пояснил он. Я спросил Драгамащенку, какая была первая одежда человека, и он не мог мне ответить. Очень заинтересовался Гививович, и я ему подсказал, что – кобура. Барабанщик подхватил тему, наверняка утверждая, что первой музыкой, да и вообще первым искусством, был барабан. Вот и барабанщик оказался интересным человеком… С ним мы поговорили о великом Тарасове. «Владимир Петрович?» – насторожился Гививович. Ах, я забыл, что нельзя называть никаких фамилий!
«Скорей! скорей!» – снова замуэдзинил Драгамащенка. Мы беседовали с барабанщиком об экуменизме, отойдя от Гививовича в сторону. Драгамащенка для убедительности прошелся вдоль домиков и пошатал замки. «Сейчас еще тепло, к зиме откроем…» – оправдался он, поймав мой взгляд, и, чтобы я поверил, один из замков открыл, достал из пустого мешка горсть чего-то вроде, как он пояснил, «гранул» и щедрым жестом сыпанул их на пустующий обезьяний бар, потом подумал и сыпанул еще горсточку. «Этого хватит?» – спросил я. «Пока хватит, – сказал он, – пока еще им должно хватать подножного корма».
Барабанщик, найдя на рельсе уязвимые для трех нот места, подбирал на ней обезьянью вариацию «Собачьего вальса».
С того берега уже звали.
«По-видимому, они зашли слишком далеко», – извинялся Драгамащенка.
«Пожалуй, их не стоит больше ждать», – согласился с ним Гививович.
«Нет уж, подождем», – твердо заявил я и пошел обезьянам навстречу.
«Стойте! туда нельзя! – закричал Драгамащенка. – Они вас без меня разорвут!»
«Кто разорвет?» – Я уже не мог удержаться.
«Да обезьяны же! Вы не знаете, какая это сила. К ним нельзя подходить и на шаг ближе альфа-самца».
«Где вы видите обезьян?» – продолжал я.
«Да они в любой момент могут появиться!»
«Вот как?..»
Я сделал еще шаг и замер. Что-то остановило меня. Я стал прислушиваться. Ничего. Показалось. Но что-то повисло в воздухе как еще одна тишина. Она напряглась, натянулась, как незримая преграда, прогибаясь в мою сторону. Я всматривался в поредевшую листву взбегавших вверх дубков и в очертаниях ветвей высматривал обезьяну, как на детской рисованой загадке имени Набокова: найди матроса и мальчика. Они прорисовывались то там, то там, зависнув в неудобных позах, выжидая, что ли, когда мы уйдем. Мы ждали их – они нас. Обезьяна таилась уже за каждым стволом – но как же умели они ждать! – ни веточка не шевельнется, ни листик не прошуршит. Звенящими этими листьями был усыпан весь склон – ни шагу здесь нельзя было ступить без оглушительного шороха: как они подкрались?..