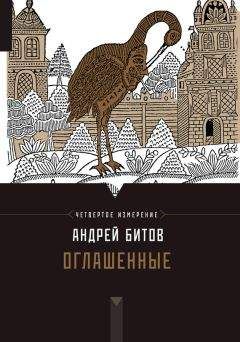Никуда я отсюда не уйду, вот что. Пока не дождусь. А поскольку они не придут сюда уже никогда, поскольку Гививович с фальшивым альфа-самцом все настойчивей демонстрировали топорность своего замысла, предлагая откровенно сыграть в их игру, поскольку никаких обезьян и в помине – тем более дождусь, тем более никуда не умру, никогда не уйду. Мне опять захотелось умереть, как жить – вот здесь!
И это был третий храм, в котором… Закрытый без Торнике, дырявый со старушкой и вот этот… В конце концов, именно сегодня, второй раз в жизни, на мне нет греха! И чем же это не храм, когда…
Когда вокруг – вот это все. ВСЁ! Понимаете или нет, ВСЁ!.. Только уйдите все, уйдите все, Христа ради! Христом Богом вас прошу, в последний раз: уй-ди-те! оставьте меня одного! жрите, пейте на том берегу, раз вам уж невтерпеж… сгиньте, рассыпьтесь… Изыди, оглашенные!
Господи! каким золотом усыпал Ты мой последний шаг! Какие голландцы расписали мне этот пейзаж красками, которым сразу триста лет, в не просохшем еще мазке! как светится этот коричневый сумрак… Да святится Имя Твое! Какую тишину развесил Ты на этих ветвях! Да приидет Царствие Твое! Заткнись, падла! забудь слова! молись, падла! Скорей, скорей! Молись, сука! Плачь, смейся, рыдай, ликуй, свинья ты моя бестолковая… Да будет воля Твоя!
Тишина разбухла, пропиталась ожиданием, как губка. Какой ливень извергнется из этой невидимой тучи молчания?..
И я услышал, как лопнула тишина, с отчетливым минус-звуком, родив тишину следующую, еще более зрелую.
Я ждал. Уже скоро. Еще чуть-чуть. Скорей, скорей!
Я ждал и не хотел дождаться. Я хотел вечно вот так нетерпеливо их ждать, которых и нету. Главное – не хотел я… да и не хочу до сих пор, чтобы это кончилось так, как это должно кончиться, тем, чем это неизбежно кончится, по замыслу, по сюжету, по предопределению, по слабости моей и по его склонности. Не хочу гореть я синим огнем! А хочу вот здесь прочно стоять на все тех же сухих листиках и не переступлю ни разу, шею не поверну, разве что глазами изредка поворочаю, чтобы снова все то же самое видеть: замерших скрытных обезьян за Твоими стволами, в Твоей листве. Сам деревом стану – пусть и за мной спрячется обезьянка… Господи, поймай меня именно в этот момент! Улучи, Богом Тебя прошу, мгновение! Я Тебя даже не о том прошу, о чем еще Гёте просил, – я не о том, чтобы все вокруг остановить, потому что, видите ли, прекрасно это, а я всего лишь и только, чтобы Ты меня остановил в этом мгновении, чтобы миновал я вместе с ним, если уж ему суждено миновать… Не о вечной жизни – о вечной смерти прошу, типун мне на язык! Душа же сама сказуется мытарь, понеже чиста Богом сотворена бысть, и в телеси осквернившися, ни на небо зрети не хощет, но биющися в перси совестию злых дел, тяжкими воздыханиями и неумолчным гласом вопие. Боже, туне мя помилуй, еже есть…
Я всматривался и всматривался в недвижимость листвы, что застыла в осенних дубах, как в похоронном венке. Неописуемая тишина стояла вокруг: шумела река, шуршала листва под ногами. «Скорей! скорей!» – визжал альфа-самец, изо всех сил колотя в рельсу. «Скорей, скорей!» – кричали с того берега, и барабанщик выстукивал на обезьяньем баре, как на тамтаме, подходящий ритм. Но вдруг, даже не вдруг, а внутри слова «вдруг», что-то, даже не что-то, а что-то находящееся внутри слова «что-то», случилось, сдвинулось, произошло: картинка сползла вбок, как отклеилась, зависла на одном уголке, свернулась трубочкой, небеса загнулись по краям на манер китайской пагоды, альфа-самец замер с занесенным над рельсою ржавым болтом в руке, барабанщик не закончил такт, да и река притихла. И именно в этой, а не в предыдущей тишине родилась еще тишина, и напряглась, и вздулась непомерным пузырем, как жила на Божественном лбу, и, прорвавшись минус-звуком, как разгерметизированный вакуум, родила звук, доселе в моей жизни не бывалый, живой, множественный и общий, неумолимо близящийся и растущий, как дерево, как лавина, как поток, несущийся на нас, и – ничего, ну ровно ничего но менялось перед глазами – ничто не шевельнулось, ни листок, но глаз было не отвести от этого неописуемого звучания… Нет слов…
…Нет слов… С кем-то мы уже толковали о природе неописуемого? Не Павел Петрович ли то был? Не иначе как. Помнится, мы говорили с ним…
Нас охватывает то неописуемый ужас, то неописуемый восторг. Взялся – значит пиши, раз ты такой уж писатель… О чем же и писать, как не о неописуемом? О неописанном – любой напишет, кому оно подвернется. Писатель же задевает за обе эти стены, восторга и ужаса, продираясь в узком коридоре повествования (нэрейшн – это нерроушн[14], сказал мне как-то англичанин). Мы хотим раздаться вширь: море – кто написал? а горы? а лес? а небо? Тургенев с Буниным поупражнялись, пока у нас было время. Опять же Тернер (по подсказке Павла Петровича). Опять же неописуемая тишина: звенели цикады, и неумолчно шумел прибой, лопнула струна в тумане, и кто-то жалобно дул в бутылку… Мол, неописуемое – так красиво пиши, мол, чем неописуемей, тем красивей. Безобразное, что ли, описуемо? Просто про безобразное можно как бы и похуже написать… А все равно: и красивое – как… и безобразное – как… Без «как» тут никак. Язык же из сравнений не состоит, он из слов состоит. Слова же заключены в словарь. А мы заключены в слова. Муха, так сказать, в янтаре. Так кто же красив, янтарь или муха? Из словаря слова исчезают, выпадая в осадок, как в перенасыщенном растворе. Неописуемый зверь – конь – оказался наконец описан: каждому его сочленению подобрали с любовью исконно русское слово. И что же? Лошадь уходит из словаря по частям: сначала пясть, потом берцо, потом цевка, потом бабка, потом венчик, – остались лишь грива да копыта – роговая оболочка. Исчезают, по частям, за конем и корова, и дом, и птицы певчие, и травы. Что за коллективизация такая? Пришли, мол, комиссары и все со двора свели. Так нет, не одни и комиссары… Мы. А слова, что появились взамен, – это уже анонимы, а не слова: что мне от калькулятора с инкассатором? Ни полушки. Ну самолет – хорошее слово… Что увижу я, выглянув не в окошко, а в иллюминатор? Не забор и не курицу – неописуемую красоту я увижу, которой до самолета никто не видел: это розово-белое, сплошное, взбитое, безбрежное, клубящееся, а над ним такое – как бы получше выразить? – синее-синее, голубое-голубое, ну прямо как, ну прямо как… прямо как небо. А где ты летишь-то? А в небе я и лечу. Так что же здесь неописуемого, раз – небо? Какие – облака? Как вата… и – ничего, кроме ваты. Арктика, космос. Ну напишу я: неописуемая тишина. Неописуемая тишина стояла, напишу. Нет, лучше: тишина стояла. Как-то уже емче. Мол, как столб. Или как жара. Еще лучше, чтобы столб стоял, как тишина. Столбу это больше идет. Или жара стояла столбом. Может, достаточно: тишина. Тишина, и все тут.
Тишина.
Однако неописуемая.
«Ну а в комнате нашей, как прялка, стоит тишина…»
Значит, все-таки описуемая?
А прялка?.. В каком словаре вы скорее отыщете это слово?
Да и тишины не найдете.
Пока она не наступит на вас окончательно. Как слон.
Тишина наступила, как слон… Хорошо ли это?
А вот это нехорошо…
Прошел год, а я так и стоял на склоне этой дубовой горы, поджидая. Страна очнулась, озираясь окрест и не узнавая: кто такие? Все-таки она не пережила 1984-й… С утра она начала новую жизнь: запретила себе опохмелиться и вырубила виноградники. Не имело смысла возвращаться в Тамыш: по знаменитым газонам валялись изрубленные змеевики. Огненное сердце двора было вырвано. Население выкапывало оружие и в тех же грядках хоронило самогонные аппараты. У Зантариев-седьмых или пятых, Зантария-пятый или седьмой из сладко пахнувшего керосином обреза в упор пристрелил участкового во время демонтажа им установки.
Ехать в Тамыш уже не имело смысла, потому что теперь можно было ехать в Америку. Там мы отдыхали от всего, повествуя обо всем. Что они в этом понимали?..
«Так прошло еще пять лет, пролетело сто ракет», – пятилетний сын Даура уже сочинял прекрасные стихи, а я все стоял в обезьяньей роще, не трогаясь с места. Пить, конечно, наладились, но лоза была уже вырублена, а оружие выкопано. История вырывала страницы из моего ненаписанного сочинения одну за другой. Как только стало можно, шутить стало неохота, и люди начали понемногу убивать друг друга. Это только вначале казалось, что шутить перестали, потому что объявилась надежда. Все мои предчувствия обратились реальностью, и я опоздал с пророчеством. Про «рафик» – с армянином и грузином, евреем и русским – стало рассказывать неуместно, а что я еще знал? Про обезьян – я плохо знал. Запоминая, я постарался пропустить мимо ушей. Краткого знакомства с вожаком и более короткого с альфа-самцом явно не хватало. С годами я уже не был уверен и в том, что их зовут именно гамадрилами, а не иначе. Ну как вы станете писать о племени, не зная даже его имени? Они же не американцы…