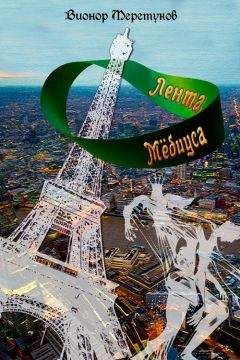И с Берковских, пали, так сказать, оковы. Сначала из железных ворот пенитенциарного заведения выбежал младший из братьев и задал такого стрекача по улицам и переулкам Армбурга, что за ним не смогла угнаться даже стая бродячих собак, привлеченная соблазнительным видом жирной задницы Макса, которую туго обтягивали вигоневые офицерские подштанники.
В противоположную от Макса сторону, с той же умопомрачительной скоростью умчался его родной брат Генрих. Тоже, понятно, в вигоневых кальсонах, поскольку братьев накануне взяли прямо с постели.
Не стоит, однако, думать, что братья бесследно исчезли с улиц столицы Асперонии и со страниц нашего повествования.
Несмотря на то, что, казалось, братья с перепугу бежали не разбирая дороги, уже через час они были у своих родных очагов.
Прошло два дня. Добравшись до своих вилл, братья сидели тихо. Как мышки в норах.
Отлежавшись, они обменялись телефонными звонками.
Сначала позвонил Макс.
Ему ответил скрипучий женский голос:
– Он уехал. Он уехал давно, не оставил он адреса даже…
– Не дури, Геша. Это же я – Максик, брат твой…
– Вы ошиблись! – визгливо заявила женщина. – Категорически заявляю: у меня нет никакого брата… И не звоните сюда больше!
– Брось валять дурака, идиот! Раз нас отпустили…
Раздались короткие гудки.
Поминутно бросая взгляд на часы, Макс минут пять просидел у телефонного аппарата, сопя от злости и предаваясь невеселым размышлениям.
«Ничто не проходит бесследно, – думал он, – братец, похоже, рехнулся… Да и как тут не рехнуться? Что ни день…»
Наконец телефон зазвонил.
– Двести сорок шесть, запятая, одиннадцать, запятая, четыре тысячи один, запятая, – услышал Макс замогильный голос Генриха, – триста пятьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят два, восклицательный знак…
– Что ты хочешь этим сказать?.. – изумился Макс.
– Один, запятая, поц, – продолжал бубнить Генрих, голос его вибрировал от злости, – два, запятая, три, поц, запятая, четыре…
– Учти, Геня, до миллиона доберешься не скоро!
– Пять, запятая, шесть, поц, поц, – Генрих никак не мог угомониться, – запятая, семь, запятая…
– Сейчас же прекрати!
– Восемь, запятая!.. Неужели ты не понимаешь, думкопф, что нас подслушивают!
– Причем здесь эти твои цифры? Ты что, решил изъясняться при помощи азбуки Морзе?
– Ага! – удовлетворенно воскликнул Генрих. – Сработало! Коли ты ничего не понял, то слухачи и подавно ни черта не поймут! Ты что же, орясина, ничего не помнишь? Я же говорил тебе, всегда начинают с евреев! Бежать надо! Бежать!
– Я один раз уже послушал тебя, и меня едва не казнили… Нечего и пытаться. От них не убежишь…
– Надо что-то придумать…
– Придумаешь тут с тобой! Да и куда бежать? Как? И на чем? Не на «мерседесах» же?
– Это мысль… Ты сохранил ту черную бороду, которую я тебе приклеил, когда ты намылился драпануть в Монголию…
– Послушай! Ты хоть понимаешь, что произошло в нашей замечательной Асперонии?
– Я знаю одно! Меня, Генриха Берковского, засадили в тюрьму как последнего уголовника! Бежать надо, Максик…
– Хватит ныть! Теперь будем действовать так, как я скажу.
Любому режиму нужны профессионалы…
– Макс, опомнись! Какие мы с тобой профессионалы? Всю жизнь только тем и занимались, что воровали…
– Это ты опомнись, дурья твоя башка! А чем еще должен заниматься честный человек, находящийся на государственной службе?! Итак, мы предложим свои услуги новой власти. И нас возьмут, потому что без нас они там все перепутают. Потом, не надо забывать, отец Лоренцо когда-то был нашим лучшим другом…
Макс оказался прав. Когда братья предстали пред светлы очи принцессы, им были поручены ответственные участки государственной службы, а именно: Генрих был назначен мэром Армбурга, а Макс к нему заместителем по хозяйственной части.
И уже через несколько часов улицы столицы сияли чистотой. В витринах магазинов, взамен разбитых, засверкали новые зеркальные стекла. Открыли свои двери рестораны и бары, заработали школы, больницы и городской транспорт.
Во дворе здания министерства обороны был обнаружен старинный грузовой «форд», который опять занял свое место в гараже Генриха Берковского.
Братья опять были при деле…
– Хорошенькая же, однако, у нас подобралась здесь компания, как я посмотрю! – ликующе воскликнул розоволицый толстяк с расцарапанной щекой, посматривая на сокамерников.
Всего в помещении четыре на пять метров в разных позах – кто лежал на нарах, кто, обхватив себя руками, с сосредоточенным видом ходил из угла в угол, кто сидел на грубых табуретах, кто просто стоял, уставившись в одну точку, – находилось около двух десятков арестантов.
На деревянной скамье, привинченной намертво к полу, сидели, привязанные спина к спине, бывшие министры, маркизы Закс и Урбан. В их печальных, недоумевающих глазах читался ужас.
В углу, отвернув лицо от арестантов, стоял на коленях и пылко молился о своем персональном спасении патер Лемке.
– Ничего себе компания подобралась, говорю, – беззаботно улыбаясь, повторил толстяк.
Заключенные никак не отреагировали на заявление жизнелюба.
Самсону лицо весельчака показалось знакомым. Доктор Лаубе, специалист по всякой нечисти, вспомнил король. Гельминтолог подошел и встал рядом.
– Ваше величество! – вполголоса обратился он к низложенному королю. – Какое счастье лицезреть в этом страшном узилище помазанника божьего!
Лаубе сказал это таким тоном, словно радовался заключению короля под стражу.
Самсон отвернулся.
Его внимание привлек крепкий мужчина лет шестидесятишестидесяти четырех.
Седая копна волос, спокойный взгляд ясных голубых глаз, мужественная линия рта.
У мужчины была бы совершенно голливудская внешность, если бы не короткие ноги, полный вислый зад и покатые плечи.
– Кто этот красавец? – спросил Самсон толстяка.
– Только один человек во всем королевстве не знает, как выглядит знаменитый писатель да Влатти…
– Да Влатти, да Влатти… Не тот ли это бумагомарака, что обходится при написании своих шедевров двумя словами?
– Я думаю, он не так-то прост. Полагаю, ему просто лень записывать свои мысли. Зачем? Чтобы потом кто-то имел возможность упрекнуть его в том, что он повторяет то, о чем люди пишут уже две тысячи лет? Нет, да Влатти не таков. Он считает, что все уже сказано. По его мнению, человечество полностью реализовало себя, миссия человечества подходит к концу, все гении высказали все, что должны были сказать, и благополучно покинули сей мир, и теперь Господь больше заказов на гении не принимает, не ждите, говорит Он, новых Достоевских, Шекспиров и Данте. Ждать их – гиблое дело. Это всё равно, что пытаться выдавить зубную пасту из использованного тюбика. А коли с гениями покончено, то человечеству уже ничего не светит… Тут я с Ним полностью согласен. Место гениев заняли удачливые проходимцы, которые думают о своем благе больше, чем самый эгоистичный гений. От себя добавлю: человечеству давно пора на помойку. И чем быстрей оно это поймет, тем быстрее удовлетворит Господа, которому не терпится завершить затянувшуюся историю человечества и приступить к увлекательному судебному процессу, который назван Им Страшным Судом и которым Он пугает нас уже черт знает сколько лет. Он пугает, а никто не боится. Как будто человека можно испугать каким-то вшивым Страшным судом…
– Каким-каким судом?..
– Страшным, ваше величество. Это когда многим достанется на орехи…
– А как Господь поступит со мной? – Самсона с интересом повернулся к толстяку.
– Я думаю, вам достанется больше, чем другим. Кому много дано, с тех и спрос, сами понимаете… И все же, мне кажется, Господь вас пожалеет, – беспардонно смерив Самсона с ног до головы, высказал предположение Лаубе, – не самый вы плохой человек, и не самый плохой король.
– Весьма благодарен. А вам, Лаубе, достанется на орехи? Гельминтолог ненадолго задумался.
– Вряд ли, ваше величество.
– Что, мало грешили?
– Не сказал бы, ваше величество. Грешил. И изрядно. Но Господь, слышал я от знающих людей, любит пьяниц…
– За что же их любить-то?
– А вы разве не знаете? Пьяница – единственный, кто и грешит искренне, и кается искренне… А это угодно Господу. Ведь если не согрешишь, то оставишь Господа без дела. Чем Он тогда будет заниматься? Кого прощать? Господь должен трудиться в поте лица. Днем и ночью. Это и в Библии записано. А праздный Господь страшнее Сатаны. Когда Отцу Небесному не черта делать, Он насылает на наши головы такие изуверские напасти, что в Преисподней черти, эти вынужденные традиционалисты и ретрограды, от удивления и зависти локти кусают. Рогатым, обреченным обходиться громокипящими котлами, чугунными сковородами и иными примитивными приспособлениями, и в голову никогда не придет, что нравственные страдания страшней физических. Господь тут на высоте. Он наделил человека чувством, чудовищным и прекрасным, чувством, которым больше не обладает ни одна тварь на земле. Понятно, что я имею в виду любовь между мужчиной и женщиной… Со всеми, простите за каламбур, вытекающими из этого последствиями. Всякими ревностями, изменами, дурными болезнями и прочими «страданиями юного Вертера».