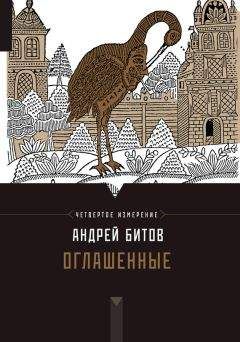Я слишком поторопился выразить свое согласие и восхищение. Как же он возмутился!..
– Через легкие, говоришь?.. Через ВСЁ!! А что ты вдыхаешь? Это ты полагаешь, что воздух… А я говорю тебе, не в легких обогащается кровь, а в сердце. И с этим обогащением поступает она сюда. – И он с презрением постучал по лбу. – В самое общее, в самое отхожее наше место. Котелок у каждого есть как вещь. Голова и яйца – это у нас снаружи, сердце же есть внутри! Оно заточено2 в нас, как в тюрьму. Оттого мысли у всех одни, а сердца одиноки. Космические аппараты, пролетающие тьму плоти… Сердца разлучены, а не мысли. Мысль есть самая поверхностная вещь, и она никогда не коснется сути. Мозг не поет и не пляшет, он не плачет и не радуется, этот студень. Что мы носимся с этой миской каши? Это именно мозг ни разу не пожалел сердца, самодовольно полагая, что оно ему служит. Все, видите ли, ему подчинено, значит, все его и обслуживает. А потом, раз все его обслуживает, значит, все ему и подвластно. А потом, раз все ему подвластно, значит, он все может. А раз он все может, давай, говорит, сделаем искусственное сердце! Построили министерство, размером с Белый дом: ведомство правого желудочка, департамент левого предсердия… Подключили к нему умирающего человека: давай, говорят, живи! А я: не хочу! Сердится мозг на человека: чего, мол, не хочешь? мы же всем тебя обеспечили, снабжение по высшему разряду, что, тебе мало? Сердца, говоришь, не хватает?.. Занялись усовершенствованием: по линии перераспределения функций отделов и сокращения штатов. Значительно продвинулись: вместо микрорайона сердце разместилось в одном квартале – тут пришел совсем умный человек, обвинил докторов, не без оснований, в тупости. Архаики вы, говорит. Зачем, говорит, вы природу пытаетесь копировать – никогда это у вас не получится; давайте исходить из чисто технических параметров. Поймали для начала теленка; вставили ему электромоторчик… Знаешь, он – жил! Кровь нормально циркулировала. Снабжала всем что положено. И знаешь, чего не хватило? Остановки! Кровь снабжала, но не оповещала о жизни и смерти. У теленка не было пульса! Счет времени был потерян. Теленок сдох, а не умер. Ибо каждый удар его… Вот битва! Боже! за что ты бьешься?.. Господи! – воскликнул он. – Как же ВСЕ хорошо!
– Что хорошего? – изумился я, снова увидев танки.
– А погодка. Праздник. Преображение как-никак.
– «Шестое августа по-старому…» А я и забыл!
– Ты что, не церковничаешь больше?
– А я и не церковничал!.. – обиделся я.
– А я сегодня, первое дело, к храму побежал…
– Ты?
– Там у сторожа похмелиться можно. Смотрю, кровать…
– Ты – вечен! Ты – Феникс! Слава богу… И ты, конечно, знаешь, что будет?
– Что будет… А ни… не будет! Слава Богу и будет. Великий Праздник.
– Я не о том… Я о них…
– Эти-то? – Он даже не посмотрел на танки. – Металлолом. Да ты не на них – ты туда взгляни!
И ложечкой, которой помешивал чифирок, не глядя, он ткнул куда-то вверх.
Сначала мне показалось… Но потом: нет, думаю… Я еще раз посмотрел вниз, на танки, а потом вверх, на небо. Нет, не может быть! Однако…
И видел я воинство в воздухе…
Опершись на раскаленные добела копья, как на лопаты, в ватниках на белые крылья, в небе подремывали ангелы. Их обрусевшие дюреровские лица были просторны, как поля, иссеченные молниями и разглаженные необсуждаемостью ратного труда. Их набрякшие кулаки молотобойцев, выкованные вместе с оружием, внушали доверие, как и лица… Легко стало мне на душе, нетрудно: это их ногти проросли сквозь кисти, это их приковали веригами за облака, это к их крыльям пристал, как куриный помет, небесный мусор русских деревень, прикидываясь патиной: избы, заборы, проселки, колодцы, развалины храмов и тракторов… Сон ангелов был тяжел и чуток, как их крылья. Они вздрагивали и всхрапывали, как кони, и наш костерок тогда слегка колыхался от их дыхания, а дымок вытягивался к ним, и тогда казалось, что это ангелы пахнут пожаром своей неустанной битвы. Боже, как же Ты терпим к нам и суров к ним!
– Господи, помоги им!
– Вот это уже разговор, —…
Он подумал или я сказал?..
28 февраля 1993,Прощеное воскресенье
Краткое послесловие, или Запоздалый эпиграф
С сочинителями случается, что они после всего спохватятся о том, о чем следовало бы им знать наперед.
ПаскальЧеловек есть существо двуногое, без перьев.
ПлатонОт одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас.
Апостол ПавелРодился мал, вырос глуп, помер пьян – ничего не знаю.
Русская пословицаЕсли тюрьма есть попытка человека заменить пространство временем, то Россия – есть попытка Господа заменить время пространством.
Павел ПетровичЧеловек есть единственное существо, не справляющееся с жизнью.
ПерекОпасно слишком обнаруживать перед человеком его сторону, общую с бессловесными, не указав ему на его величие. Опасно также слишком выставлять перед ним его величие, не указав на слабости. Еще опаснее оставлять в неведении о том и другом.
ПаскальТьмы низких истин мне дороже
Нас возвышающий обман…
Оставь герою сердце! Что же
Он будет без него? Тиран…
Попытка утопии
Размышление в конце века[17]
С тех пор как у Ницше умер Бог, мы прожили еще сто лет, хороня то ту, то другую Его ипостась. Хотя бы за последние два-три года мне посчастливилось присутствовать на похоронах той или иной категории человеческого сознания. То был КОНЕЦ ЛИТЕРАТУРЫ, то КОНЕЦ ИСТОРИИ, то КОНЕЦ ИДЕОЛОГИИ, то КОНЕЦ ПРОРОКОВ, то даже КОНЕЦ РЕФЛЕКСИИ. Естественно, все это происходило еще и под общей маркой КОНЕЦ ВЕКА, а то даже КОНЕЦ МИЛЛЕНИУМА. Помню, Литература честно умерла первой в Лиссабоне, История скончалась следующей весной в Берлине, Идеология молодым летом в Милане, Пророков выносили в Мюнхене, Рефлексия пережила последние конвульсии в Амстердаме. Может, в географии все дело? Какой КОНЕЦ должны мы отметить, скажем, в Стамбуле?
В конце концов.
Эсхатология перерастает в схоластику. И это не упрек: значит, эсхатология становится естественной, а не трагической и уже даже не романтической частью нашего сознания. Схоластически обработанная категория только и может стать неоспоримой его частью. Так православие, отвергнув схоластику, отвернулось и от цивилизации. Однако Горбачев, под конец, уже цитировал Аристотеля.
Действительно, что-то кончилось.
Нам, в России, проще: у нас понятно, ЧТО кончилось.
Империя, например. Хотя, в агонии, она еще долго будет молотить своим чешуйчатым хвостом, разметая народы.
Что-то кончилось, но ведь что-то и началось. И что кончилось, мы знаем, а что началось – не так уж. Мы-то уж знали, чего бояться: Сталина, ЧК, ЦК, КПСС, КГБ, МПС, ГКЧП. Эти скрипучие аббревиатуры, которые уже не слова человеческие, суть синонимы и страха нечеловеческого. И мир зато знал, чего бояться: нас, называя наш страх коммунизмом. И все вместе мы уже боялись атомной войны.
Теперь – вдруг. Чего бояться? Ни того, ни другого, ни третьего.
Еще страшнее.
До того страшно, что прошлое уже не пугает нас, мимикрируя под счастье. Счастье ведь всегда не ценили, и оно всегда в прошлом.
И тогда надо сказать, что боимся мы не чего-нибудь. Угроза – вещь ясная. А боимся мы НАСТОЯЩЕГО, РЕАЛЬНОСТИ. Мы их не выносим, мы им не соответствуем. В конце концов, что есть Сталин, КГБ, коммунизм, фашизм, лагеря, тюрьмы, пушки, бомбы, ракеты, как не персонификация нашего страха перед реальностью? Разве не мы сами их сделали? Кого же мы боимся? САМИХ СЕБЯ. А если мы боимся самих себя, то, значит, все от нас и зависит.
Не стоит ни отчаиваться, ни опускать руки. Все в нашей власти.
Когда мы эту свою власть осознаем, то тут же и утратим ее, потому что все тогда окажется в РУЦЕ БОЖЬЕЙ.
В качестве своей маленькой победы над страхом – страхом показаться простоватым или наивным, страхом не просоответствовать уровню, страхом опростоволоситься, страхом НЕ показаться, страхом быть собою – я пытаюсь что-то сказать. И это единственное оправдание и право речи.
Главное постараться не внушать, не давить, не настаивать на правоте – избежать агрессии. И это трудно. Это такая работа. Это, по-видимому, и есть мысль. Ее попытка.
И эта попытка есть утопия. Но если сама природа мысли утопична, то зачем стесняться утопии? Истина, как известно, голая, обнаженная. Оттого такая смелая.