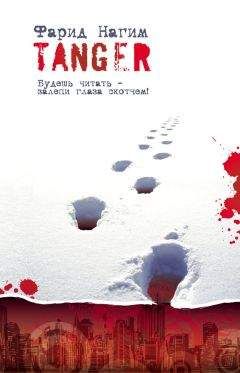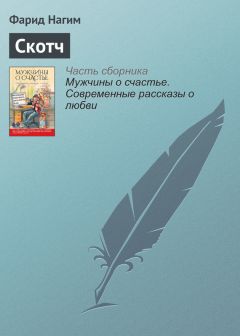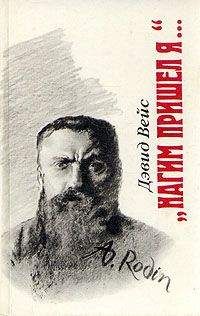Ознакомительная версия.
Он закрыл лицо своими разными ладонями.
Невыносимое и всегда мучительно новое, юное и все более высокое и стройное обнажение женщины летом. Это был выпускной вечер и всюду, всюду женское. Эти юные девочки замерли на самой грани расцвета всего женского в них – и, казалось, что груди их преувеличенно велики, что уже не может быть у женщин таких вызывающих грудей, таких заметных сквозь школьную форму – холмик на холмике – сосков; что их ягодицы настолько преувеличенно выпуклы, как не может быть и у взрослой женщины, и в то же время слишком идеальны, идеальны безжалостно. И эти в мурашках, озябшие под коротким ноги, эти тоненькие вены со свежайшей голубой жидкостью. И эти детские еще личики. Выпущенные теперь во взрослую жизнь они в полную мощь чувствовали, возбуждали в себе и, по-детски смеясь, несли сквозь толпу свой новый женский имидж. Казалось, что там, под тугими швами их джинсов, под короткими юбками и форменными платьями, уже сочится, уже выступает, как капельки на кожице готового взорваться от перезрелости персика. Казалось, что они как улитки оставляют мокрый след. И наверное, если бы в каждую из них сейчас залетело хотя бы по снежинке спермы, все они в один миг зазвенели б детьми, как автомат монетами в 777.
Нечаянно задел плечом одну из них, казалось, что у неё даже кости гибкие, извинился как-то усердно и успокоился. Физически чувствовалась эта патока, бродящая под тонко натянутой кожицей. Серафимыч сидел среди них, как проклятье, как преступная ошибка природы, как обвинительный акт.
Очень много народу было на Киевском. И эти пробки из-за ремонта, скрежещущие звуки. Эти бритые головы, слюнявое мясо ртов, дешевое пластиковое пиво, сигареты и плевки в тамбуре.
– A-а… ты что… А-а-а! – я услышал за спиной сдавленный крик Серафимыча.
Я оглянулся, влекомый чьими-то плечами, и вдруг увидел его вверх ногами, его били головой об перрон и просовывали в этот проем под электричку.
– Нажмите стоп-кран! – заорал я, ломясь через вагон.
Выскочил в тамбур и уперся в этот самый стоп-кран, про который всегда думал: что будет? и сорвал его. Выскочил. Тетка заорала на меня. Никого не было, я увидел это широкое место и пролез под вагон.
– Ну что, баран, руки чешутся, что ли?! Отпусти стоп-кран…
Гремел наверху динамик. Кричала женщина. Серафимыч сидел в пространстве под перроном и протягивал мне руки.
– Вот блядь такая, все руки в чьем-то дерьме испачкал.
Потом над нами замелькали каблуки.
– Здесь, здесь.
– Выходите.
– Нет, не выходите.
– Сидите там, её сейчас назад подадут…
– Этот лысый кА-Азел к тебе в сумку полез, я его задушить хотел!
– Да там же нет ничего, кроме грязных носков.
Одуванчики плыли по реке. Как и год назад, мы сидели с ним в траве на этом нашем склоне, который когда-то давно был берегом.
– Столько уже зла собралось в мире от Москвы до самых до окраин, что меня давно должно было раздавить, но тут тебя выводят на сцену в 97-м, помогает Баранова, которая никогда не помогала, и появляется мистический и единственный такой на земле Ассаев.
Какое бы он отвращение у меня ни вызывал, жалко и смешно было смотреть, как он, забыв про этот синяк под глазом, аккуратно расстилает наш газетный стол, вынимает продукты.
– И вдруг мне сейчас показалось, Анварик, что ничего не случилось, все по-прежнему, и мы с тобой по-прежнему вместе. А что я говорю? Ведь мы вместе, мне только показалось, ведь правда, Анварик? О, я идиот, это мне все привиделось.
Я хорошо понимал это его чувство, так у меня было с Асель. Мне и самому вдруг показалось, что все по-прежнему, мы живы друг для друга и нет грязного пятна между нами, и на моей душе не саднит. Хотелось засмеяться и сдернуть занавеску этого мира, завернуть край травы.
– Ассаев уже спал, и в этой ночи я слушал удивительную передачу. Оказывается, Анвар, существуют такие странные бабочки, которые совершают огромные перелеты и при этом ориентируются по звездам. И на каком-то участке пути их поджидают светлячки, эти бабочки путаются и летят на них, как на звезды, а попадаются на колючки и паутину, гибнут там… чей-то каблук валяется, – он нашел в траве каблук, повертел его и выбросил. – Всегда у меня так, сначала про одно, потом про другое. Я вспомнил, Вовка, вот так же выбросил чей-то каблук, а потом оказалось, что это его собственный.
– Смешно.
– Поезжай в Ялту, подумай, отдохни, Саня Михайловна тебя ждет.
– Поеду.
– О, браво, браво!
На его редакционном диктофоне я поставил «Вьен», а потом «В машине смерти».
– Когда будешь умирать, эту песню поставишь, – сказал он. – А потом скажешь потомкам: несите! И засмеешься.
– Хорошо.
Мы просидели с ним до самого вечера, а когда встали, то оказалось, что он, так же, как Вовка, выбросил именно свой каблук. До темноты искали в траве, и нашли, но приделать назад его уже было невозможно. Он шел рядом со мною по улице Павленко, хромал, и всё ныл и ныл. Вдали светящиеся соты домов. Звук самолетов в небе, то теплые, то холодные полосы воздуха. Гудящий фонарь возле дачи Пастернака, бабочка под ним и ее большая тень на асфальте. Я остановился:
– Найди себе кого-нибудь.
– А! А! – склонился он, тихо вскрикивая и тужась стошнить, чтоб я видел, как я его оскорбил.
Вышел. Какая-то женщина сказала про девушку в коричневом костюмчике. Я сразу понял, что это она. Она шла по дороге с другой стороны, бледная, похудевшая и особенно красивая. Она искала меня на другой даче. Все те дни со мной она была в таком состоянии, что даже не смогла уверенно запомнить наш дом. Она не потянулась ко мне.
– Привет, Марусь.
Приобнял, стукнулся лбом в плечо. Отстраняется со страхом в глазах. Пошли по дорожке.
– Что случилось, Анвар?!
– Я тебе изменил.
– С мужчиной? – спросила она, и в голосе была надежда и заранее готовое прощение.
– Хуже, – усмехнулся я. – С женщиной.
– Я же звонила везде, в СТД сказали, что ДАВНО приехали.
Потом сидели на лавке. Хотелось смеяться. Она несколько раз сдерживала слезы. В голове была пустота и мысли, какой я мудак.
– Я не понимаю, ну что могло произойти за такое время, что могло случиться?
– Я встретил другую, так будет лучше.
– Кому лучше? – она смешно сморщила лицо.
– Извини, Марусь, я не могу сдержать смех.
– Ну неужели, неужели она. Нет, я не то хотела сказать, но ведь у нас все было хорошо, я же…
– Извини, я смеюсь, такое бывает, что в такой момент вдруг рассмеешься.
В окне Дома творчества работало радио. «Зачем же я тебе позвонил в тот майский вечер: а пойдем танцевать, Марусинька»?!
– Вон, этот твой, Алексей Серафимович идет, – как-то отстранено, другим голосом сказала она, и глаза ее мгновенно подсохли. Она отвернулась.
Я искал глазами, но никого не увидел. «Что ему тут нужно?!»
– Анвар, ты, наверное, устал, этот смех, я же знаю, я же психолог…
Лицо ее снова стало еврейским и умоляющим, задрожали губы, и вспухли капли по низу век.
– Анвар, Кен по тебе соскучился, что я ему скажу?
– Кен. Извини, Марусь, что за смех? Для тебя самой так будет лучше, Маруся, я себя знаю.
Пустота в голове. Вставало лицо Няни.
– Твоя куртка осталась.
– Пусть, она сэконд-хэндовская.
Она смотрела на меня, склонив голову набок, как только она одна делала. Странно, что когда ты уже расстался с девушкой, отстранился от нее, только тогда она становится близкой тебе, ты вдруг замечаешь её как очень родного человека, с таким узнаваемым поведением, манерами, интонацией, что у тебя вздрагивает душа.
Она уходила быстро и, конечно, плакала и один только раз обернулась, это ее бледное, с большими карими глазами лицо над подстриженной плоскостью кустарника. Она замерла. Она не верила – у ней было мучение в глазах, какое-то выражение виноватое, как у больных тифом на старинных фиолетово-коричневых фотографиях – так посмотрела, что я закрыл от этого ужаса лицо ладонями.
Няня. Мы столкнулись в дверях. Она прошла, отстраняя от меня лицо. Я снова дурашливо перегородил ей дорогу.
– Подташнивает меня.
– Что?
– …………………, – говорила и показывала глазами.
– Может быть, просто задержка? Такое часто бывает, бывает, что…
Она так посмотрела на меня, что я осекся.
– Может, оставишь его? – спросил я, со страхом ожидая ее слов.
– Нет, я уже решила. Это ты тогда, когда ты…
Мимо нас ходил Санька и говорил себе под нос: «Осторожно, я – человек-убийца! Осторожно, я – человек-убийца!»
– Пока маленький срок еще, неделя-две.
– А сколько это стоит-то?
– Шестьсот… сто долларов, короче.
Я звонил Нелли, но у них сменился телефон. Неудобно было просить денег у Германа, но я позвонил ему. Трубку взяла Соня, Германа не было, и я, вздыхая, поговорил с ней ни о чем.
– Что ты делаешь, Анвар? – резко вступила Няня на кухню.
– Что?
– Ты унижаешь меня! У меня самой, что ли, денег нет?
Странно, что Татуня невероятным чутьем все поняла.
Ознакомительная версия.