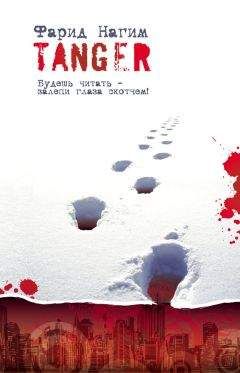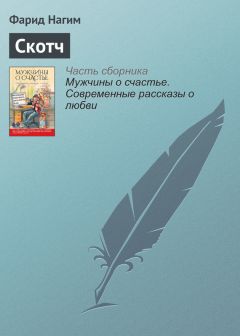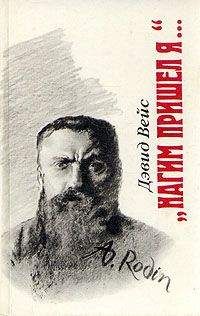Ознакомительная версия.
– Что?
– Ты унижаешь меня! У меня самой, что ли, денег нет?
Странно, что Татуня невероятным чутьем все поняла.
– А куда мы идем, куда? – радовался Санька.
– Возьми скейтборд.
– Ула, ула!
Она взяла простынь и полотенце.
«НАСТЮШЕНЬКА ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!
ЛЮБИМАЯ СПАСИБО ЗА СЫНА! Я ВАС ЛЮБЛЮ!
ТАНЕЧКА СПАСИБО ЗА МАСЕЧКУ! ЦЕЛУЮ!
СПАСИБО ЗА ДОЧУРКУ!»
Мы шли по этим крупным буквам под окнами, она их не видела. На ветвях дряблые разноцветные шарики. Высохшие цветы. В коридоре сидели и ходили беременные женщины, казалось, что они несут тяжелый арбуз под халатом. Слесарь ругался с медсестрой. Шел ремонт, пахло известкой и деревом. На втором этаже пусто. Большой вялой рукой она стукнулась в стеклянную дверь. Я чувствовал себя пошлым, худым и кривоногим. Открыла розоволицая пожилая медсестра в чистом белом халате. Няня хотела казаться деловой, но была обмякшей, устало отстранившейся от своего крупного стройного тела. Пока дверь закрывалась, я увидел, как у нее забрали простынь и как она прилегла на кожаную кушетку.
«Продадим б/у коляску-трансформер Пьер Карден. Недорого». «Продам молокоотсос». «Бандаж». «Продам коляску. Польша. Сумка».
Во дворе был удобный склон, и мы с Санькой пытались кататься на скейтборде. Оказывается, это очень трудно. И асфальт такой, что колеса тарахтели. Санька спрашивал про маму с таким видом, будто он все знает, но специально для меня делает вид, что маленький и ничего не понимает. Я думал о том ребенке, каким бы он мог быть. И мне казалось, что он лежит в ней, как мой член, и я возбуждался.
Кто-то звонил по мобильнику, поздравлял с рождением сына и просил выглянуть в окно. Как в рекламе. Не думая о том, они подражали рекламе.
Потом я держал Саньку и катил его на скейтборде.
– Такой большой мальчик, а с папой катаешься, – заметила скучающая тетка.
Санька замер.
– Он не мой папа! – сказал он.
– Ты встань одной ножкой, а другой отталкивайся, а папа тебя…
– Он не мой папа!
Тетка растерянно посмотрел на меня.
– Я не его папа, – сказал я. – Я друг его мамы.
– А-а, друг его мамы, – значительно кивает головой.
Прошли два, очень молоденькие, паренька: один – с цветами, а другой – с большой куклой. Как в Советском Союзе. Они волновались и шутили друг над другом. Прикалывались.
Она вышла на солнечное крыльцо. Растрепанные волосы и помятое заспанное лицо. Я незаметно быстро одернул ее юбку.
– ……………… – сказал я.
– Что? А-а…
Мне казалось, что в ней чего-то должно недоставать, но все как прежде, да, точно. И все-таки, кажется, что чего-то не хватает.
– Мама, телефон! – радостно завопил Санька.
И я тоже с удивлением услышал настойчивые звонки телефона в ее сумке. Она подержала его в руке и положила назад. Он снова зазвонил.
– Мама, телефон!
– Кто? Да, конечно… А, это ты… Перезвоните позже, я сейчас занята.
Снова шли по этим крупным белым буквам. Паренек поправил куклу, и она заплакала по-детски. Няня остановилась и недоуменно смотрела на неё.
Потом шли вдоль проспекта, шумели машины.
– Хочешь мороженое?
– Я хочу, Анвал!
– Будешь? – снова спросил я у нее.
Она кивнула головой.
Продавщица приветливо и радостно посмотрела на нас. Я купил мороженое Няне и Саньке. Она недоуменно посмотрела на мороженое в моей руке и отрицательно покачала головой.
Посмотрел на трещину в белой стене и сразу вспомнил Крым.
Принимал душ в их ванной, тесной от множества бутылочек Няни. Прижал к лицу нагревшееся на трубе махровое полотенце.
Отнял полотенце от лица, и от ярчайшего солнца все показалось белым – море, галька, люди, крики чаек, шум прибоя. На губах привкус горячей морской соли и белого сухого вина. Потом шел по приморскому парку и прикрывал горячую, налысо остриженную голову полотенцем. Густой, туго натянутый блеск моря. Под синтетически ярким, радиационным ялтинским солнцем сидят на корточках молодые гомосексуалисты, щурятся и скучно ждут богатых клиентов из отеля «Ореанда». На набережной, возле платана видел молодых веселых и богатых гомиков из Москвы. Испугался и бежал. Смотрел им вслед и завидовал, казалось, что они живут другой жизнью – свободной и творческой.
Жара такая, что оплывают свечи, свешиваются веревочно. В пустоте летнего бездействия открывал и закрывал ящик его стола: старый профсоюзный билет, пожелтевшие письма, скрепки и несколько фотографий, разорванных пополам – он молод на них, весел и болезненно чувствуется присутствие тех людей, которых он потом оторвал, иногда видна рука или нога.
Какой-то шум, будто кашляет кошка. Саня Михайловна лежала и рыдала, как девчонка, и тело вздрагивает, будто его трясут.
– Я прямо не знаю, аж прямо страшно делается. Меня душит прямо. Где Алексей? Жалею, что второго не родила. Были мужики хорошие, один на промбазе. Подошел: «Что-то ты одна ходишь?» – «Я мужа похоронила». – «А я жену, давай сойдемся»? Три раза подходил. А я говорю: два раза мужей хоронила, больше не хочу. Вот теперь саму хоронить некому. Я устала от жизни такой. Я бы легла и умерла, и не могу никак. Господи, под бомбежкой была, с горы летела, может, меня смерть не берет?! Сердце держит. Ничто не интересует, Господи, хоть бы я легла и уснула. А у тебя в Москве есть где жить?
– Нет.
– Приезжай. Будешь здесь жить. А Алексей пусть забирает меня в Москву, я не сварливая, как другие, я не пью. У меня пальто есть зимнее и сапоги еще. Меня страх одолевает, что меня кто-то прихлопнет, умру и буду на полу лежать.
– Может лекарство еще какое-то купить по дороге?
Смотрел на таинственно светящееся море. Оно улавливало невидимый мне луч. Хруст гальки. Высокий парень в теплой кожаной куртке подошел ко мне. Наверное, единственная дорогая вещь в его гардеробе.
– Извините, закурить не будет?
– Нет.
Я отошел и с ненавистью смотрел на море.
– А вы, наверное, отдыхаете здесь? – с пидорской настойчивой учтивостью поинтересовался он.
Я скривился, сдерживаясь, чтобы не послать его, и злобно загромыхал галькой в сторону набережной. С замирающим сердцем пошел в «Диану». Там перестановка – танцпол у задней стены, а на старом его месте новенькие столики и стулья, отвратительно пластиковые, черные с блестками.
Ушел и сидел в открытом кафе. Дул плотный теплый ветер, и я прикрывал глаза, чтобы не попал мусор.
Сидел на скамье, мимо прошли дешевые, но дорогие лично для меня проститутки.
– А у вас закурить не будет, мыладой чеовек? – с тайным значением спросил мужчина.
Жирное, женоподобное тело, плюхнувшееся рядом со мной. Так нагло, будто он меня уже изучил. Бывают такие гомики-здоровяки, с очень толстыми пальцами. От ненависти я дал ему закурить, он часто дышал, и руки его дрожали, как у Серафимыча. Он с наслаждением выпустил дым и посмотрел в сторону, будто скрывая мысли своего лица.
– Харашо, не правда ли? – Он снова посмотрел в ту сторону и придвинул к моей ноге свою сырую ляжку.
– Да-а… хорошо…
Кто-то рядом пускал мыльные пузыри.
Я медленно встал, поставил ногу на скамью, поправил майку и со всей силы ударил его локтем в лицо. Полетели искры от сигареты.
– Ой бля-а…
Что-то перевернулось в воздухе перед моими глазами.
– …а-а-а… ш-а-а-а… – кричала женщина, бегущая с ребенком с той стороны. – Ми-шА-а-а… Милиция! Помогите!
И я побежал. Мне казалось, что я слышу милицейские свистки, топот ног за спиной. Все милиционеры здесь были молодые и поджарые. По памяти прошлого года я влетел в этот переход возле дешевой столовки, быстро и спокойно прошел мимо шашлыков, мимо деревянной веранды ресторана и купил билет на пустую канатную дорогу. Сжался на железном полу. Кабина тихо и уютно покачивалась, скрипели блоки. Показалось, что у кассы мелькают фонарики. Могут остановить канатку. Я откинул задвижку, раскрыл двустворчатые двери, встал на колени, а потом свесился вниз, огоньки города махнули внизу, песок под пальцами, жестяная крыша быстро наплывала под мои ноги… Сильно заскрипела кабина, и страшно загрохотала жесть крыши. Какие-то заброшенные мастерские. Шепот и шум, будто кто-то большой быстро шел по воде. Я знал, что здесь недалеко уже и до дома Сани Михайловны.
Няня. Одновременно она своим открытым, срывающимся голосом говорила по мобильнику.
– Вот как будто ждали, когда я тебе позвоню. Гарванич предлагает мне перейти в новую структуру пресс-секретарем, это спортивный комитет налоговой полиции… а я боюсь.
– Знаешь, как мне Нелли говорила, я тебе рассказывал: не боги горшки обжигают.
– А ты мне, Анварчик, поможешь писать, если что?
– Ну, конечно, Нянь! Не вопрос, как ты сама говоришь.
– А ты знаешь, тогда у меня выпадает две-три недели пустых. Может нам действительно приехать к тебе с Санькой, а? Татуня, правда, говорит, что не надо.
Ознакомительная версия.