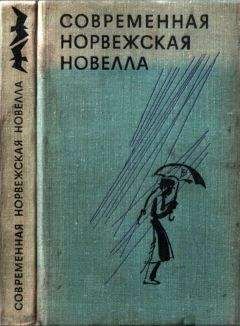Он пробормотал, что это трудно, но он постарается. И ушел, даже не спросив, какого вина мы бы хотели.
Мы стояли и осматривали комнату, в ней почти ничего не было. Массивная двуспальная кровать, умывальник с горячей и холодной водой и перед окном столик с двумя стульями. На стене у двери висела полочка и две вешалки. Я повесил пальто на одну из них, а другую протянул ей. Она так и застыла с вешалкой в руке, и я уже пожалел, что дал ей эту вешалку. Она могла счесть меня грубым и бывалым, а я себя таким больше не чувствовал. Я вспомнил, как вел себя в такси, — теперь, при ярком свете висячей лампы, это казалось гротескным. Двое чужих людей, подумал я, а в номере только верхний свет. Я подошел к окну.
— Интересно, принесет он нам что-нибудь или нет? — спросила она.
— Конечно, принесет, — ответил я. — Ведь это его заработок.
Я вспомнил, что забыл снять галоши, и вернулся к двери. Она следила за мной взглядом, и это, как обычно, вывело меня из равновесия. Я знаю, что никто ничего не замечает, если я двигаюсь медленно, но все равно злюсь и говорю глупости, лишь бы отвлечь внимание. Конечно, это несправедливо. Но пусть уж лучше меня принимают за хама.
— Вы бы, конечно, хотели получить деньги вперед? — спросил я и вытащил бумажник.
— Какие деньги?
— Разве мы не сошлись на ста кронах?
Она покраснела, поджала губы, и глаза ее сузились.
— Совершенно верно, — сказала она.
Она опустила деньги в сумку, даже не взглянув, сколько я ей дал, и я подумал, что как бы там ни было, а не нужда толкнула ее на это похождение. И все-таки я почувствовал себя увереннее после того, как расплатился. Мы вроде бы вернулись к делу.
В дверь постучали. Я открыл, отдал деньги и принял бутылку портвейна и две рюмки. Потом я запер дверь, поставил рюмки на столик перед окном и разлил вино.
— За ваше здоровье! — сказал я.
Она положила вешалку на кровать и взяла рюмку.
— И за ваше! — Она выпила рюмку до дна.
— Ого! — сказал я. — Придется мне поднажать, а то отстану.
Я осушил свою рюмку и налил снова. Мы сидели за столом друг против друга. Я молчал и нагло ее разглядывал. Ведь я заплатил за это.
Жакет ее был застегнут на все пуговицы, а вырез был настолько мал, что я видел лишь тоненькую нитку жемчуга на шее. Жемчуг выглядел таким невзрачным, что вполне мог оказаться настоящим. По разведке, предпринятой в такси, я уже знал, что у нее под жакетом надета гладкая блузка, но не знал, какого она цвета. Я подумал, что она должна быть белой, и мне было интересно, угадал ли я.
— Вы находите, что здесь холодно? — спросил я.
— Нет, напротив. С чего вы взяли?
— Я хочу снять пиджак. Может, и вы последуете моему примеру? Нездорово находиться в помещении в той же одежде, что и на улице.
Я повесил пиджак на спинку стула, она взяла вешалку и, не говоря ни слова, подошла к полке возле двери. Блузка оказалась белой и настолько прозрачной, что я смог разглядеть бретельки. Они были черные, как и костюм, я еще подумал, уж не траур ли это. Мы снова выпили, и я почувствовал в теле сладкую игру вина, она как бы обволакивала мою хроническую трусость.
— Послушайте, — сказал я, — конечно, меня это не касается и вы можете не отвечать. Но мне хотелось бы знать, зачем вы на это пошли.
— Я вам уже объяснила, — спокойно ответила она.
— Вы имеете в виду деньги?
— Да. Разве это не достаточно уважительная причина? — Она пыталась быть дерзкой.
— Конечно! — сказал я. — Безусловно! И у вас, наверно, есть малышка, которую вы должны обеспечивать? Которая не должна пойти по вашим стопам. Ее отец не дает вам ни эре. Он в море, и никто не знает, где его носит. Верно?
— Да.
— Вы не получили никакого образования, — продолжал я. — Вы ничего не умеете и немного ленивы. Верно? В таком случае улица — единственное решение проблемы.
— Совершенно верно. За ваше здоровье!
— И за ваше также! Вы делаете успехи.
Она выпила третью рюмку, и я последовал ее примеру. Если бы она знала, она оставила бы мне всю бутылку. Такие, как она, добрые.
Я налил снова, и тут она сказала первую из двух фраз, которые все перевернули вверх дном.
— Вы всю ночь собираетесь так болтать?
Дело не в том, что ей плохо удавалась роль, которую она на себя взяла. Нет, что-то было в ее голосе, звучавшем на грани рыданий, какое-то отчаяние, которое вконец лишило меня мужества. Это не по мне, подумал я. Я не знал, как из этого выпутаться.
— Нет, конечно, — ответил я, — что вы!
Она, должно быть, поняла, что смутила меня, потому что встала, подошла ко мне и погладила меня по щеке.
— Давайте ляжем? — предложила она. — Хорошо?
— Ложитесь первая, — сказал я.
Она наклонилась и поцеловала меня в волосы, потом подошла к кровати и откинула одеяло. Я сидел к ней спиной и не пытался смотреть на нее. Но я по звуку слышал, какую часть одежды она снимает. Наконец она натянула на себя одеяло и сказала:
— Я готова.
— Прекрасно, — сказал я, но не двинулся с места.
Я протянул руку за рюмкой, отпил немного и продолжал сидеть с рюмкой в руке. Я был побит. Борьбы не было. Я сдался без сопротивления, мне оставался один выход. Я должен встать, взглянуть на нее, провести рукой по лбу и сказать: «Простите, но я не могу. Разрешите не объяснять то, что объяснить невозможно. Я могу сказать только одно: вы тут ни при чем. Постарайтесь простить меня, хотя я вел себя по-хамски». Сказав что-нибудь в этом роде, я должен был бы надеть пальто, галоши и уйти. А она бы осталась лежать, прислушиваясь к моим шагам. Может, она и поплакала бы, но ей в утешение оставалось немного вина.
И тут она произнесла вторую фразу:
— Ты идешь?
Это был не вопрос. Это был откровенный вопль, исполненный боли, словно крик тонущего зверя. Эти два слова рассекли воздух, как меч, и я испугался. Человек гибнет, сказал я себе. Ты убьешь его, если сейчас уйдешь.
— Да, да, — сказал я и отставил рюмку. — Сейчас иду.
Когда я сел на край кровати, она улыбнулась и протянула мне руку, я взял ее и тихонько поцеловал. Рука была бледная, с тонкой кожей, через которую просвечивали жилки. Я отпустил ее руку. Она слегка вздрогнула, почувствовав на ребрах мои пальцы. Я осторожно передвигал пальцы, словно врач, ищущий перелом. Только я хотел наклониться, чтобы остудить глаза о ее кожу, как заметил на колене ее руку. Я резко выпрямился, слишком резко, и она испугалась. Глаза ее расширились.
— Что случилось?
Я посмотрел на дверь. У меня за плечами был шестнадцатилетний опыт, и я знал, что делать в подобных случаях.
— Ничего, — ответил я. — Мне показалось, что там кто-то идет.
Я отодвинулся, чтобы она не могла до меня дотянуться, и, чтобы объяснить свое движение, скинул с нее одеяло. Я целовал ее колени и думал: господи, как изумительно пахнет человек! От этого запаха я стал нежным и неповоротливым. Она протянула руку и погладила меня по волосам. Это не остановило меня, лишь капельку сбило. Она была беспомощна и великодушна. В ее ласках было такое богатство, такая щедрость, от которых глаза женщин темнеют и запястья становятся податливыми, и мне хотелось продлить это подольше. Ведь потом для меня не будет уже ничего, и потому я был благодарен за каждую выигранную минутку. Я отодвигал свою казнь то одной выдумкой, то другой, и голос ее поразил меня желанием и страстью, когда она сказала:
— Ты идешь?
Это были те же самые слова, но теперь они пели, точно виолончель — самый человечный из всех музыкальных инструментов. Это был приговор. Его произнес верховный судья, и я повиновался.
— Иду, — сказал я.
Я чувствовал себя сильным и неуязвимым, как никогда. Мной двигало сострадание. Я даю больше, чем получаю, она не сможет обидеть меня.
Я подвинул стул к постели, повесил рубашку поверх пиджака, расправил галстук, чтобы он не помялся. В этом не было необходимости. Ему недолго оставалось висеть там. Она натянула на себя одеяло и улыбнулась, как бы оправдываясь:
— Немного прохладно.
Опираясь на спинку кровати, я расстегнул пояс и стал снимать сперва правый протез, потом левый.
— О господи!
Она не закрыла лицо одеялом, как однажды другая женщина, но и не сделала вид, будто ей это безразлично. Онемевшая и парализованная, она уставилась на мои протезы, и я не мешал ей, пока не решил, что она достаточно насмотрелась. Тогда я стал одеваться.
— Молчи, — сказал я и сел на край кровати. — Я сейчас уйду.
— Нет, не уходи! — попросила она. — Пожалуйста!
Я молчал. Конечно, я не мог уйти от нее. Сначала я должен был проводить ее домой, но я не спешил говорить ей об этом. Она видела, что я не трогаюсь с места, я хотел дать ей время прийти в себя. Я был спокоен и свободен. У меня не было причин бежать. Что бы она ни сказала или ни сделала, думал я, теперь она уже не сможет причинить мне боль. С дружеским вниманием я посмотрел ей прямо в глаза, когда она снова заговорила: