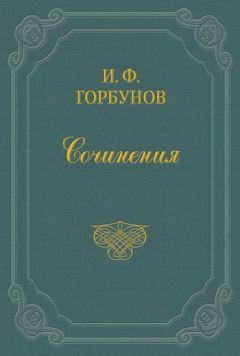Обедня кончена. Все тем же порядком возвращаются домой. Улица опустела.
Обед и сон. Но какой сон! Сон с храпом, со свистом, со скрежетом зубовным. Все спит! Спят хозяева, спят дети, спят коты, спят куры. На улице жарко, тихо я мертво, ни малейшего признака жизни, даже птицы попрятались, даже в саду ветви дерев не колышутся.
Беда идет…
После вечерен по Большой Мещанской улице по направлению к Сухаревой башне бежал, едва переводя дух, парень, бессмысленно ища чего-то глазами.
– Где тут, сударь, аптека? – торопливо спросил он, наткнувшись на какого-то прохожего.
– А ты осторожней! Выпучил бельма, да и летишь сломя голову.
– Нам аптеку требовается, хозяин у нас нездоров, – отвечал парень, устремляясь вперед.
– Служба, где тут аптека? – обратился он к стоящему на часах будочнику.
Будочник зевнул во весь рот так сильно, что левая рука его непроизвольно приподняла алебарду[3] на аршин от земли, а стоявшая рядом извозчичья лошадь вздрогнула.
– Проходи, проходи, – промычал он.
– Давай пятачок, найдем, – предложил извозчик.
Парень, махнув рукой, помчался дальше.
– Пожалуйте кровочистительиых капель на двадцать копеек, – сказал он, переступив порог аптеки.
Аптекарь флегматически, не спеша взял склянку, долго тер ее полотенцем, налил туда какой-то жидкости, заткнул пробочкой, завернул бумажкой, запечатал сургучиком и отпустил.
Парень побежал обратно. У ворот дома купца Рожнова он встретился с Ефимом Филипповым.
– Шабаш, брат, не поспел.
– А что?
– Хозяин твой порешился.
Парень остолбенел. Дворник стоял бледный как смерть. Подошел священник с дьяконом и дьячками. Все приняли благословение.
– Что плохо лечил, Филиппыч? – начал священник, обращаясь к Ефиму Филиппову.
– Что делать, батюшка, – отвечал цирюльник, – в четырех местах кидал– инструмент не действует.
В одном месте, кажется, жилу пополам рассек. Это уж не от нас. Да, не от нас. Всем нам один путь, – окончил он, входя в калитку.
Утро. Не поведу читателя туда, где теперь раздается надгробное рыдание, где слышится раздирающий душу стон, где из глубины растроганного сердца льются горячие слезы; будем стоять у ворот дома и смотреть, что происходит на улице.
Вот в калитку юркнули два худеньких человечка в сибирочках[4], а за ними еще двое… еще… Это гробовщики. Вышли все назад, столпились в кучу, постояли, поговорили, опять ушли в калитку… опять вышли. Трое отделились, взяли отступного и ушли.
В нескольких шагах от ворот на тумбах расположились какие-то неопределенные личности. Один во фризовой шинели, другой в длинном истрепанном халате, третий в истасканном донельзя вицмундире, четвертый… Это нищие.
Фризовая шинель обращается к дворнику:
– А что, почтенный, подавать нынче будут?
– Что вы за народ такой? – отвечал сердито дворник. – Только что панафиду начали, а уж вам подавать.
– Самое бы теперь настоящее время подавать.
– Есть которые благочестивые, – поддакнула нищая женщина, – сейчас подают.
– Может, и завтра-то подавать не будут. Вы не мешайтесь тут, отходите… Не до вас теперь.
– Слушай команду, проходи, – скомандовал вицмундир.
– Ты бы сам-то проходил, – заметила фризовая шинель, – стыдился бы! Пуговицы светлые имеешь, а побираешься. Мы ночевать здесь будем, а не уйдем.
Около пяти часов вечера вся улица запружена была нищей братией.
– Эко рвани-то, рвани-то что понаперло, пушкой не прошибешь, – замечает дворник.
– Кормимся, почтенный, кормимся, – отвечает фризовая шинель. – Ты думаешь, лестно ходить по Москве-то…
– Без них и кабаки бы не стояли, – ввернул сидевший на козлах кучер.
– Тебе, жирному черту, хорошо там сидеть-то!..
– Мне чудесно! Лучше требовать нельзя.
– Ну, так и сиди, тебя не трогают.
– Еще бы ты тронул! Я те так трону… Тпру! Балуй! – отнесся он к беспокоившейся лошади.
Вицмундир был уже пьян и ссорился со своею братнею. Он рассказывал, как фризовая шинель по гостиному двору на мертвое тело сбирал и для этого носил с собой деревянный ящик, в котором лежала селедка. Селедка и изображала мертвое тело.
– А помнишь, как ты в Ножовой линии у разносчика блин стащил…
– Помню! А ты помнишь ли, как тебя на цепи, как собаку, по всей Москве провели.
– А ты вот что помнишь ли, как тебя за фальшивую присягу в остроге гноили: животворящий ты крест целовал…
– Полноте вам, – заметил благочестивый старичок нищий. – Божьим именем приняли просить… Стыда-то в вас нет.
От сильного напора нищих потребовалась вооруженная сила, которая и не замедлила явиться в лице двух будочников. Сначала они увещевали разойтись, потом пригрозили холодным оружием – тесаками, или, по московскому выражению, селедками – не подействовало; тогда воины врезались в толпу и начали крушить направо и налево и, не кончивши кампании, отошли.
– Хоть бей, хошь нет – ничего с нами не сделаешь. Такие купцы не каждый день помирают, – заметил один из нищих, – теперь не токмо вы – сам частный ничего не сделает. Вишь народ как разъярился – он все три дня здесь стоять будет…
Но вот открылось окно, высунулась оттуда в черном платке голова старухи.
– Подходите которые, – обратилась она к толпе. Нищие хлынули к окну. Давка, визг… крики.
– Поминайте в ваших молитвах раба Василия, – сказала она, залившись слезами.
– Дарья Карнеевна, вам неспособно, позвольте, я буду, – предупредил ее молодой приказчик, – подходите помаленьку, не все чтобы вдруг, всем будет. За упокой души Василия, – проговорил он, опуская в руку нищего медный пятак.
Долго шла раздача, толпа мало-помалу редела.
– Ты сколько раз подходил?
– Раза четыре. В последний раз не дал, приметил.
Соседний кабак торговал на славу. Целовальник с чувством принимал нищих-гостей.
– Божьи люди, мои голубчики! Кушайте на доброе здоровье. С утра стояли, устали чай, да и бока-то вам понамяли, – приговаривал он, отмеривая крючком пенник.
Вицмундир беседовал с какими-то кабацкими завсегдатаями.
– Неужели тебе не стыдно побираться?
– Стыдно! Очень стыдно! Мне вот как стыдно: разрежь ты мою грудь да и посмотри, что у меня там теперь. Горе!
– Ведь тебя из консистории-то[5] выгнали.
– Выгнали! По третьему пункту! А ты знаешь, что это значит? Это значит: вот я теперь с тобой говорю, а меня нет на свете.
– Где ж ты?
– Меня нет! Нет меня! Вот что значит третий пункт.
– За что же это тебя?
– За добрые дела! Каюсь!
– Так и быть, поднесем стаканчик, сказывай. Дай секлетарю стаканчик.
– Коллежский секретарь!
– Бог тебя знает, какой ты там есть, знаем, что секретарь прокутимший.
Мальчик поднес стакан водки и два сухарика. Вицмундир, взяв стакан, стал в позу и начал:
– Благоденственное и мирное житие…
– Пей так, не безобразничай.
Выпив водки, он схватился за голову и забормотал:
– Стыдно, стыдно, стыдно! не осудите меня! Столоначальник говорит: «Приходи, Куняев, по бедности твоей, в суд подшивать журналы». Могу я это?
– Дело не хитрое!
– А я что, портной? Портной я?
Я не портной журналы шить,
Не из таких я негодяев!
Никак портным не может быть
Коллежский секретарь Куняев, —
пропел вицмундир торжественно.
– Так рассказывай, за что тебя выгнали-то?.
– А вот видишь ты: нужно было купцу Кочеврягину… знаешь Ивана Семенова?
– Слыхали.
– Нужно было ему родственников ограбить.
– Дело хорошее!
– Ну, на что уж лучше! Вот вы и слушайте. А по ходу-то дела надо было из консистории метрику украсть. Лишение всех прав, конная, Сибирь!.. Вот он к Бабушкину – тысячу рублей. К Захарычу – две тысячи. К тому, к другому – все на одном стоят. Ко мне. Перекрестился я, да и думаю: возьмусь за это дело. Сойдет с рук – в монастырь уйду; не сойдет – туда мне, собаке, и дорога. «Извольте, говорю, за триста рублей оборудую». – «Ну, говорит, орудуй, от меня забыт не будешь». И стал я орудовать. Первое дело – архивариус. Он в консисторию, и я за ним; он из консистории, и я за ним; как свечка, я перед ним теплился. Полюбился я ему за это, позвал меня к себе, на Якиманке он жил. И сделался я у него первым человеком. Детей его стал грамоте учить, а старшенького на скрипке.
– А ты и на скрипке играешь?
– Я?! Я первый скрипач по Москве был. Только вот теперь в руках трясение, смычка держать не могу. Вот раз он мне и говорит: «Тебя, Куняев, я выпросил у секретаря к себе в архив на подмогу». Как вошел я туда в первый-то раз, так у меня сердце-то словно каленым железом… Думаю, ведь я разбойник!.. Прошелся по алфавиту – есть! Что ж вы думаете, други сердечные, я сделал? Украл? Зачем воровать – за воровство бьют. А я вот перед вами, как перед богом…
– Выпей еще стаканчик. Поднеси.
– Выпью! Ничтожный я человек, оплеванный… Одно мне осталось…
Давайте веселиться,
Давайте пить вино!
Не грех вина напиться —
Оно на то дано.
– Тебе бы театры разыгрывать!..