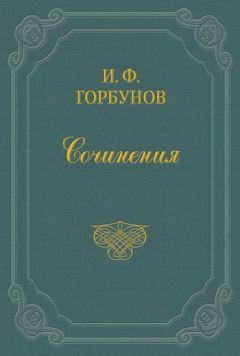– Тебе бы театры разыгрывать!..
Взяв стакан, он с чувством произнес:
– Посторонись, душа, оболью!
– Так что ж ты сделал-то?
– Не украл! Вот запекись моя гортань кровью, коли я украл. Я взял да в эту папку, где значилась метрика, положил две сальных свечки. Какова штука! Умственная, а?
– Зачем же это ты?
– Постой! Ровно через год из сиротского суда справка об этой метрике. Цап! а в папке-то дыра одна! Крысы за год-то все скушали. Налетели! Архивариус-то как сидел, так и остался. Меня, раба божьего, в Тверскую часть… в острог, в уголовную!.. Дело-то до правительствующего сената восходило, а правительст…
Речь рассказчика мгновенно прервалась, рот искривился, глаза помутились: точно пронизанный пулей, отшатнувшись в сторону, он грохнулся на пол. Собеседники вскочили и бросились вон. Целовальник загородил им дорогу.
– Нет, у нас так делается: вместе пили, вместе и отвечать будете.
– Мы ни в чем непричинны.
– Нет, позвольте! У нас такие разы бывали. Еще вы то возьмите в рассуждение, его теперича потрошить будут: как же его можно потрошить без свидетелев? Нет, уж вы сделайте милость! Вы думаете, мне-то приятность какая? Приятности мне никакой нет, а сущее разорение! Никитка, беги на улицу, кричи «караул». Водка, она тоже никого не помилует, – окончил он, закрывая труп грязной рогожей.
Целые три дня около дома купца Рожнова толпились нищие, и по захолустью стали ходить беспокойные слухи, что скоропостижная смерть купца Рожнова не есть первая, что точно так же окончил дни свои мещанин Заклюев, шорник из тупого переулка, лавочник, а в Хамовниках народ так и валит. Слухам этим не придавали особенной веры; мало ли что народ болтает.
Не успели нищие очувствоваться после поминок Рожнова, как вновь были приглашены к себе купчихою Романихою, которая, несмотря на усилия известнейших в то время врачей Лоедера и Гааза, окончила жизнь в несколько часов. Слухи о чем-то неладном увеличивались. Редкий день, чтобы по Серединке не проводили от сорока до пятидесяти покойников. Вдруг дотоле неслыханное слово «холера» разнеслось по захолустью. Народ оцепенел!
Гнев божий!
Полиция приколачивает на заборах печатные объявления о предосторожности. Их никто не читает.
Ефим Филиппов обессилел от практики, он отворяет кровь на улице. Церковные колокола не умолкают. Погребальные дороги и просто фуры тянутся к Пятницкому кладбищу с утра до ночи. Гнев божий! Нет помощи, нет спасения! Захолустье потеряло больше половины своих обывателей. Осталось одно утешение – молитва.
И вот посреди улицы воздвигнули помост и пригласили духовенство соседних церквей с крестным ходом. Лишь только певчие возгласили «Царю небесный», народ, измученный страхом и ожиданием смерти, пал на колени и зарыдал, как один человек. Священнослужители не выдержали своего высокого положения – тоже зарыдали. Протодьякон Успенского собора читал апостол и лишь дошел до слов «да смертию упразднит имущего державу смерти», с ближайшей колокольни раздался троекратно удар колокола – весть о смерти настоятеля, – голос его прервался и он едва мог кончить чтение.
Во время молебствия по захолустью проскакал взвод казаков, с полицеймейстером во главе.
– Бунт! – разнеслось по захолустью.
– Мастеровщина взбунтовалась, – закричал лавочник.
В трактир «Адрианополь» собралась мастеровая чернь – шорники, сапожники, позументщики и т. п. Кто-то из компании сказал, что народ морят. Пошел на эту тему разговор. Пьяный портняга сказал, что всему делу причина Ефим Филиппов, что он все кровь отворяет, что предлагал и ему, да он не согласился.
– Разве возможно христианскую кровь выпущать!
– Мы ему докажем!
– Ежели он, значит, кровь отворял и, значит… по какому праву? – подхватил тщедушный, чахоточный сапожник, – надо, значит, к нему и сейчас, значит…
– Своим судом!
– Покажи струмент! По какому праву?
Трактирщик начал было успокаивать, но избитый бросился в квартал и донес о случившемся. Мастеровщина бросилась в кабак, в котором кончил дни свои коллежский секретарь Куняев. Целовальник ничего не возражал.
– Лопайте, черти! Все равно вам издыхать-то, – сказал он и вышел на улицу.
Обезумев от пенника, пьяная голь ринулась к цирюльне Ефима Филиппова. У цирюльни было тихо и не пахло, как бывало, паленым. Стеклянная дверь разлетелась вдребезги, и пьяным глазам представилось тяжелое зрелище.
Ефим Филиппов лежал на столе бездыханный, и Петрович нараспев произносил стих из псалтыря: «Яко дух пройдет в нем и не будет, и не познает к тому места своего».
Толпа отхлынула и была окружена казаками.
– Ах, как это народ-от мрет! Господи ты боже наш! Царица ты наша небесная! – говорил живший в захолустье на большой улице кривой купец, мимо дома которого провозили жертву смерти.
– И что это теперича будет? Вся Москва, почитай, вымерла. Испытует нас господь или наказывает – его святая воля. В городе-то пусто; мимо Минина вчера проехал – хоть бы те один человек был… жутко; только заблудящий какой-то, бога-то знать в ем нет, стал середь площади да песней так и заливается… «Что, говорю, просторно тебе?» – «Просторно, говорит, господин купец! Никто не препятствует». Индо руками я всплеснул!.. Этакое божеское наказание, а он…
– Что, значит, непутевый-то человек! – заметила старуха жена…
– Диву я дался! Молодой парень – дворовый али так какой… «На смирение-то, говорю, взять тебя некому». – «Живых, говорит, теперича не трогают, мертвых подбирать впору».
Старики в глубоком молчании смотрели в окно.
– Сирот-то, сирот-то теперича… Господи! – сказала старуха.
– Сироты теперича много! – отвечал старик. – Столько теперича этой сироты… и куда пойдет она, кто ее вспоит-вскормит, оденет-обует… Давеча я посмотрел… ребенок один: сколь мать свою любит, так под гроб и бросается… Удивительно мне это! Махонький, от земли не видать, а сколь у него сердце это к родительнице. Индо слеза меня прошибла! Еду, а у самого так слеза и бьет, уж очень чувствительно мне это… Махонький, а любовь свою… подобно как…
Старуха прослезилась.
– Сама была сирота, без отца, без матери, без роду, без племени…
– И должна, значит, чувствовать сиротское дело. Сам куска не ешь – сироте отдай, потому сирота, она ни в чем не повинная… Должен ты ее… Вот ты теперича плачешь, значит – это бог тебе дал, чтобы народ жалеть. А ежели мы так рассудим: двое нас с тобою; дом у нас большой, барский, заблудиться в ем можно: ежели в этот дом наберем мы с тобой ребяток оставших, сироту эту неимущую, пожалуй, и богу угодим. Своих-то нет – чужих беречи будем. И будет эта сирота в саду у нас гулять да богу за нас молиться. Так, что ли?
Старуха перекрестилась.
– Дай тебе бог!
Старик исполнил свое предположение. По окончании холеры он пожертвовал свой дом под училище, внес большой капитал на его содержание. Святитель Филарет благословил иконою доброго старца, а протодьякон провозгласил:
– Потомственному почетному гражданину, фридрихсгамскому первостатейному купцу Феодору Феодоровичу Набилкову многая лета. Об этой высокой личности будет мое душевное слово[6].
«Новое время», 5 и 12 октября 1880 г.
Из московского захолустья
Не бог сотвори комиссара, но бес начерта его на песце и вложи в него душу злонравную, исполненну всякия скверны, и вдаде ему в руце крючец, во еже прицеплятися и обирати всякую душу христианскую.
Так начинается весьма редкая раскольничья рукопись, озаглавленная так: «О некоем комиссаре, како стяжал, и о купце». В ней рассказывается, как помощник квартального надзирателя (в тридцатых-сороковых годах они назывались комиссарами) притеснял купца и какие купец принимал меры против своего гонителя. Комиссар в то время был для захолустья персона важная, важнее квартального надзирателя, район действий которого была канцелярия, а комиссар представлял из себя наружную полицию, и обыватели находились в полнейшей от него зависимости. Протоколов в то время не было, а все решалось на словах, по душе.
Огородил купец у себя на дворе, по собственному рисунку, какую-нибудь невообразимую нескладную постройку: теперь – протокол… отступление от строительного устава…
Или: начнет тот же купец выкачивать из своего погреба на улицу смрадную миазматическую жидкость и распустит зловоние по всему захолустью: теперь – протокол… несоблюдение санитарного устава… обязательное постановление и т. д.
А прежде:
– Что это, Иван Семеныч, ты… тово… – говорит комиссар, – сам увидит – не хорошо!.. И мне за тебя достанется.
Четыре стертых или так называвшихся «слепых» полтинника в руку – и смотрительный устав обойден.
Или:
– Что это, Иван Семеныч, ты весь квартал заразил?…
– Мне и самому, брат, тошно, – отвечает купец, – да что же делать-то! Три года не выкачивали. Капуста, Ермил Николаевич, действует!.. Заходи ужо, милый человек… Портфеинцу по рюмочке выпьем…