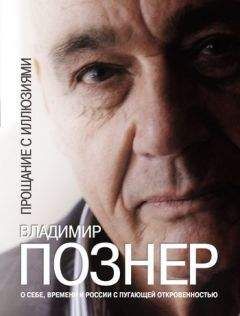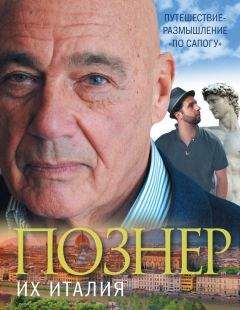Нет, совсем, совсем разные люди — Замшалов и Чечулин. Как можно их спутать! Никак невозможно.
Если поцеловать в губы Замшалова, то обязательно уколешься об острые черные иголки. Усы же Чечулина мягко обнимают любые щеки, и влажные губы любвеобильно поддаются крепкому нажиму дружеского поцелуя. Замшалов по профессии комиссионер по бриллиантам и ниже алмаза не спускается, высоко ценя свое человеческое достоинство. Чечулин же с удовольствием спекульнет и на серебряных ложках. А если подвернется под руку галстух или брюки какие-нибудь, то Чечулин продаст и брюки. Замшалов очень серьезно относится как к революции, так и к своей профессии. Чечулин же к революции и своей профессии относится с некоторым легкомыслием. Замшалов официально числится заведующим подотдела важного советского учреждения, Чечулин — член Сорабиса[46], музыкант, и, когда его спрашивают, на каком инструменте он играет, отвечает: «На белендрясах[47]». «Белендрясы, — говорит он, — самый важный инструмент в оркестре мировой гармонии!» Наконец, чтобы не надоесть читателю, — Чечулин, если случится гроза, всегда скажет: «Люблю грозу в начале мая», хотя бы был уже июль. Замшалов же в таких случаях молча затворяет окна и двери, потому что боится умереть из-за пустяка.
Совсем разные люди Чечулин, Замшалов и Руманов, и только в одном все трое сходятся: рады они всякому случаю повластвовать над толпой, которую Замшалов называет безумной и дикой, Чечулин — легкомысленной и жалкой, а Руманов никак не называет из уверенности, что толпа создана для того, чтобы он жил хорошо и сыто.
VI
Три приятеля ехали в салон-вагоне и, останавливаясь на станциях, смотрели на дикую и безумную, легкомысленную и жалкую, созданную им на потребу толпу. Мешки, сапоги, головы, руки — все было перемешано так искусно, что нельзя было отличить — этой ли руке принадлежит чемодан или нет. И поэтому в толпе происходили частые недоразумения. Случалось, что чья-нибудь рука хватала чемодан, принадлежащий другой руке. Тогда толпа кричала, подходил милиционер и бил кого-нибудь третьего, совсем незаинтересованного человека.
Чечулин рассказывал, как его хотели убить в марте, когда он был еще земгусаром, за офицерские погоны.
— Убежал в вещевой склад, за мешки, а за мной прапор молоденький. Прапор не успел. Как поросенок визжал, когда его кололи. Ей-богу, как поросенок. Даже смешно. А меня не нашли.
Погладил усы и вздохнул.
— А за что меня убивать? У меня ведь дочь есть — Мушкой звать. Где она теперь — в Парижах ли, в Америке ли какой-нибудь!
И вынул облупившуюся фотографию. Может быть, женщина. А может быть, кошка. Черное пятно. Приложил к усам черное пятно и дал товарищам. Товарищи смотрели на черное пятно, видели прекрасное женское лицо и влюблялись.
Чечулин допил бутылку и вышел на площадку — подышать свежим воздухом и поболтать с проводником. И ворвался назад в купе. Усы блудливые, как у кота.
— Женщина! Ей-богу, женщина!
— Где женщина?
— Ей-богу, там проводник впустил. Брюки, коричневое пальто — женщина!
— Да как же брюки?..
— Переодета. Ей-богу! Я на нее смотрю, а она глазами вбок. Раз глазами вбок — значит, женщина. Я стреляный волк. Ей-богу!
— Идем!
Пошли — впереди Чечулин, за ним Руманов, позади Замшалов, плотно притворив дверь в купе.
— Мадмуазель, скрывать не стану, безумно я люблю Татьяну. И вы не скрывайтесь.
— Вы женщина? — спросил осторожно Замшалов, ломаясь с треском.
Человек в коричневом пальто отчетливым движением вынул мандат.
— Агент чрезвычайной железнодорожной комиссии.
— А… гм… очень приятно.
Вернулись — Замшалов впереди, Руманов за ним, Чечулин позади, тыкаясь усами в спину Руманову и тщетно пытаясь обогнать ее. Но спина оказалась слишком широкой и настойчивой.
Замшалов отворил окно и выкидывал в темноту пустые бутылки. Когда дело дошло до нераспечатанных бутылок, заколебался. Потом выкинул и их. Осмотрел купе, дыхнул на Руманова.
— Пахнет?
— Пахнет. Только не знаю — от тебя, от меня или от Чечулина.
Замшалов вынул из чемодана розовую воду, прополоскал рот, передал товарищам. Потом все трое задымили махоркой. И когда махорка заглушила спиртной дух, Замшалов сказал кратко:
— Нужно было предупредить, что будет агент.
— А я почем знал? Это со станции какой-нибудь. Я почем знал? А ты тоже, Чечулин, — женщина!
— А конечно женщина, раз глазами вбок.
— Хороша женщина. Такая женщина упечет за милую душу…
Замолчали и испуганно дымили махоркой. Руманов заговорил первый:
— А что испугались? Подумаешь — Че-Ка. Да я важнее всякого Че-Ка!
— Не нужно подавать повода к ложным слухам, — сказал Замшалов.
Снова замолчали. Снова задымили махоркой.
— А ты, Чечулин, дурак! Из-за тебя я чуть Ане не изменил. Я Аню люблю, понимаешь? А ты хочешь, чтобы я изменил ей с каким-то агентом Че-Ка.
VII
Поручик Жарков сидел в своей усадьбе, в той комнате, в которой он родился.
Замшалов осторожно ступал по звонкому полу. Останавливался, сгибаясь и хрустя суставами, на поворотах. Казалось, он что-то забирает в скобки.
— Но ведь это секретнейше. Вы вот говорите нам так, а ведь это секретнейше.
— Мне все равно нечего терять. Либо вы согласитесь, либо — пусть меня расстреляют.
— Но ведь если я, предположим, соглашусь, то ведь это секретнейше. Об этом только мы четверо — и больше никто.
— Конечно. Но ведь никто и не будет знать. Только мы трое и в Москве — Руманов.
— Но ведь это секретнейше. Кто же за нас поручится?
— Мы же сами.
— Я-то за себя поручусь, а за других?
— Каждый за себя поручится.
— Раньше, когда секретнейше, на мече или на кресте клялись. А теперь, теперь на чем клясться?
И Замшалов опять зашагал по комнате, забирая что-то в скобки.
— Вы, Замшалов, просто возьмите отпуск и приезжайте сюда отдохнуть. В деревне летом хорошо. А одновременно…
— Да, это нужно сообразить.
— И вспомните — мы только начнем с этой деревни, а потом, когда станем влиятельнее, — кто знает, Замшалов, какие посты нас ожидают?
— Гм… это нужно сообразить.
— И ничего противозаконного мы не будем делать. Напротив того. Мы будем только в точности исполнять декреты советской власти. Мы только слишком точно будем их исполнять — до ерунды.
— Но ведь это секретнейше!
И опять затянутая фигура Замшалова ломалась с треском на поворотах, забирая что-то в скобки.
— Вы подумайте, Замшалов, — важный государственный пост. Власть над толпой. А начать с мести этим крестьянам… Подумайте, Замшалов, ведь вы достойны большего, чем вы сейчас занимаетесь. Подумайте, ведь и у вас крестьяне разграбили усадьбу, и отобрали землю, и вырубили сады. А советская власть — ведь она нас тоже ограбила. Ваши сейфы — подумайте!
— Это все требует обсуждения.
— Возьмите отпуск. Отдохнете пока что, подкормитесь. Хотя все, что мы отберем с крестьян — а мы последнее будем отбирать и бить будем беспощадно, по декрету, — все это мы будем отправлять в Москву. Возьмете отпуск?
— Да. Это нужно сообразить. Я правда год без отпусков и прогулов. Хорошо… Подумаю…
Руманов казался гораздо толще, чем раньше, массивнее, и лицо пепельнее. Совсем другое надел Руманов лицо.
— Я приму все меры, чтобы арестовать опасных людей. Вы мне сообщайте об них в форме…
Замшалов вытянулся на цыпочках, высокий, ломкий, — и руки, согнутые в локтях, предостерегающе бросил вперед. Острые пальцы растопырены, между средним и безымянным левой руки зажата папироса.
— Законная форма — и между строчек! Между строчек!
Сам себя Руманов спросил:
— Ведь крестьяне, если пошлют делегацию в Москву и будут жаловаться на нас, коммунистов, — значит, они враги советской власти?
VIII
Три приятеля молчали, лежа в купе на диванах. Чечулину хотелось говорить, но товарищи молчали, и он молчал. Глядел в окно — слева направо деревья, кусты, домики, столбы, опять столбы, домики, кусты, деревья. Баба с мешком, телега с мужиком. Ребятишки взмахнули платками — и уже проглочены.
Легонькие подкатывали под окна полустанки, сопровождали поезд и отставали. Тяжелые, людьми нагруженные, зацеплялись за вагоны станции, и с трудом отдирался от них поезд. Ночь.
Чечулин растянулся на верхней полке, расстегнув брюки и сняв сапоги. Взглянул на мокрые, густо пахнущие потом, сверху белые, а внизу черные носки и вспомнил Мушку.
Замшалов аккуратно бросил окурок в пепельницу.
— Только помните, Чечулин. Язык за зубами. Ничего не было. А если и было, то вы сами виноваты.
— Что?
— Ничего.
Камер-юнкер Руманов ворочался с боку на бок. И на правом неудобно, и на левом. Жаль, что нет третьего бока. На спине — страшные сны. На животе — душно. Примостился, лег, подогнув руку. Рука затекла — выпростал. Повернулся на бок. Неудобно. На другой — неудобно. Тьфу!