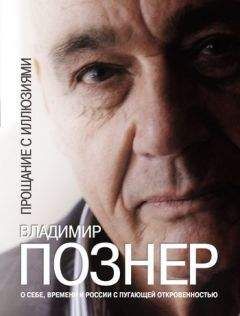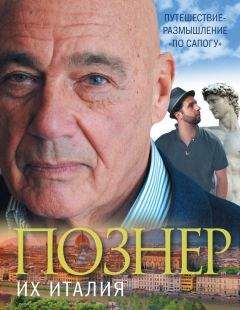В темном подвале светлого двухэтажного домика поп плакал, и молился, и коленями ворошил грязную солому. И три его дочери с соломой в распущенных волосах растекались в три ручья. Чекист, арестованный за грабеж, успокаивал:
— Я их всех знаю. Не беспокойтесь, батюшка. Вас выпустят.
Толстая дама то впивалась острыми ногтями в мягкие ладони, а спиной — в стену, то, осев и разрыхлившись, кричала:
— Неужели? Неужели? Этого не может быть! Неужели?
И тогда опять поп плакал и молился. И дочери его растекались в три ручья. А чекист, арестованный за грабеж, успокаивал:
— Берите пример с Назара.
Назар, мужик серый и спокойный, уписывал ржаной хлеб, жирно, в два пальца, намазанный маслом, и иногда угощал других. Осторожно ломал мягкий жаркий хлеб, чтобы не отдать слишком много. Хлеб, масло и яйца приносила ему его жена ежедневно утром. Половину брали конвойные, половину получал Назар.
Поручик Жарков шагал по камере из угла в угол. Френча не было — сняли. Волосатая грудь была прикрыта лохмотьями белой рубашки. Ноги были окровавлены о булыжники. Брюки изорваны; колени обнажены; на обнаженном плече — корка запекшейся крови.
Назар ходил на двор пилить дрова. Отдыхал, крутил цигарки и разговаривал с конвойным об урожае. Закурив, снова принимался пилить. Никто не знал, за что он арестован, и сам он не знал.
— Гражданин Жарков! К допросу!
Во втором этаже, в просторной комнате, дагестанец раскатился одной ногой по полу, другой зацепился за ножку стула. Смотрел на мир грозным оком, а под грозным оком — кровоподтек цветом и величиной с керенку.
У дагестанца большой нос и большая белая папаха, хотя на дворе — лето. Папаха эта — гулящая: вчера она была на одном конвойном, третьего дня на другом. Сграбил ее чекист, арестованный за грабеж.
У чекистов все вещи — гулящие. Сегодня на одном, завтра на другом — по очереди. Право собственности отменено, и выбор вещей богатый.
— Ты! Ты знаешь, кто ты такой?
— Я — поручик Жарков.
— Нет, ты гадина ползучая. Вот ты кто такой.
— Я — поручик Жарков.
— Твое отношение к советской власти?
— Нечего спрашивать. Вы сами знаете, что нечего спрашивать.
Дагестанец подобрал раскатившуюся по полу ногу, обутую в огромный сапог.
— Мы потом тебя хорошенько допросим. Отведите эту гадину в отдельную камеру. Кто там еще? Приведите всех сразу.
Допрашивал попа. Поп плакал.
— Дочерей зачем? Ничем дочери не виноваты. Бог приневолил их родиться от меня — одна их вина. Зачем дочерей?
Дочери плакали в три ручья. Дагестанец делал отметки карандашом на бумаге и глядел на отметки величественным оком. А под величественным оком — кровоподтек цветом и величиной с керенку. Поп боялся карандаша, гулявшего по бумаге.
Дагестанец озабочен мыслью — достали или не достали водку?
— Дочерей зачем?
Чекист, арестованный за грабеж, подмигивает попу и строит веселые гримасы дочерям. Чекист огорчен — зачем плакать, когда он знает, что их всех отпустят. Назар стоит молчаливо, поглаживает степенно бороду, и руки его хотят пилить дрова. Заговаривает с толстой дамой об урожае, а та вдруг забилась в истерике.
— Неужели? Неужели? Не может быть!
Чекист успокаивает и говорит укоризненно дагестанцу:
— Слушай, Митька, нельзя же всех разом допрашивать. Нужно поотдельно.
— Прошу не указывать!
Дагестанец взбешен. Папаха съехала на затылок. Достали или не достали водку?
Допрос продолжается. Последним, отдельно, допрашивали поручика Жаркова. Допрашивали долго.
А к вечеру чекист, переговорив с конвойным, подмигнул попу и сказал:
— Освободят. Всех освободят.
И взглянул на шагающего поручика.
III
Под утро вызвали Назара и поручика и повели за город по заспанным улицам. Шли долго и остановились в поле, у дороги.
Взвод выстроился в линию, черную и молчаливую, как винтовка. Назар первым встал против взвода, поглаживая степенно бороду, и руки его хотели пилить дрова.
Назар снял шапку, посмотрел, подняв бороду, на небо и снова надел шапку.
— Налево кругом!
Назар повернулся направо кругом.
— Взвод! Пли!
Поручик Жарков встал на место Назара.
— Налево кругом!
Поручик, хотя и босой, повернулся ловко, по-военному, даже шлепнул голой пяткой о пятку. Увидел поле, синюю опушку леса и над лесом облачное небо.
— Взво-о-од!
Командир взвода вынул из широкого кармана шинели мешочек с табаком, медленно крутил цигарку, посматривая на спину ожидающего поручика, и усмехался. Скрутил.
— Ведите арестованного назад!
Поручик Жарков ждал.
— Да ну же — оборачивайся!
Поле, опушка леса, небо. И это еще не в последний раз? Поле, опушка леса, небо. И воздух. И трава. И деревья. И желтый лютик у дороги. И две колеи, уходящие в лес. И воздух, воздух, воздух…
Поручика Жаркова вели под конвоем обратно.
Жена Назара передавала конвойному у ворот Че-Ка хлеб, мясо и яйца — для мужа. Конвойный взял и не сказал ничего.
IV
С чекистом, арестованным за грабеж, поступили просто. Дагестанец цепко ухватил его за плечо, отвел в сарай и пулей в затылок уложил лицом в навоз.
А пока чекист спрашивал, куда его ведут, разговаривал о папахе и думал, что останется жив, дагестанец размышлял о важном государственном деле.
Придя к себе, во второй этаж, бросил папаху под кровать, надел военную фуражку и велел позвать Жаркова.
— Гражданин Жарков, как вы себя чувствуете?
Жарков молчал, в лохмотьях, босой.
— Гражданин Жарков, вы говорили, что вы хорошо знаете здешних крестьян и что вы изменили отношение к советской власти. Вы помните, что я предлагал вам. Вы отказались и просили лучше расстрелять вас. Подумайте же теперь.
Поручик Жарков думал. Лицей, ограбленная усадьба, предатели…
Дагестанец в военной фуражке казался совсем другим: гораздо вежливее. А нос его и кровоподтек под вежливым глазом казались еще больше. Дагестанец говорил официальным языком, и карандаш, зажатый между вторым и третьим пальцами правой руки, вертелся официально.
Жарков думал. То есть не думал, а так — не видел ни комнаты, ни дагестанца и стоял у двери неподвижно. Потом двинулось лицо, мускулы дрогнули — и теперь уже Жарков действительно думал. И думал очень быстро, так что дыханье захватывало. И думал радостно. Все образы, туманом затемнившие крепкую голову, сгустились в одно слово:
— Хорошо.
Вечером поручик Жарков писал письма. Прежде всего в Москву, камер-юнкеру Руманову, и в Москву же — еще два письма — Чечулину и Замшалову.
V
— Когда я крашу себе губы? Тогда, когда целую Аню!
И камер-юнкер Руманов смеется. А когда смеется — не может остановиться. Дрожит толстое лицо, дрожит толстое тело, ноги дрожат и руки. И дрожит лампа на круглом столе, мягкий диван и на мягкой шелковой подушке — Аня.
У Ани действительно ярко-красные губы, розовые щеки, ярко-черные глаза и черные волосы. И целовать Анины губы, щеки, глаза и волосы очень приятно.
А все же нужно ехать. Сейчас придут Чечулин и Замшалов — и нужно ехать.
— Я, Аня, скоро вернусь. Мы только на новоселье. Товарищ в коммунисты записался — новоселье в своей же усадьбе старой справляет.
И опять камер-юнкер Руманов засмеялся. И опять дрожит квартира в третьем этаже, на Козихинском, окна дрожат, а за окнами дрожит Москва, но не от смеха.
Волны ходят по животу камер-юнкера, и глаз нету — истекли слезами.
А все же нужно ехать — лето и деревенская природа.
— Я скоро вернусь.
— Тебе хорошо, а я без тебя, как мыша какая-нибудь буду бегать.
Электрическая лампа с зеленым колпаком на круглом столе, мягкий свет и мягкий диван. И черный автомобиль камер-юнкера Руманова стреляет под окнами бензином.
— Кто там? Войдите!
Вошли два человека. В первый момент казалось, что они поразительно похожи друг на друга — оба высокие, затянутые в коричневые френчи. У обоих широчайшие галифе качаются над тонкими ногами. А в следующий момент уже ясно — совсем Замшалов не похож на Чечулина.
Замшалов — тонкий, и когда сгибается, то всегда слышен треск в суставах, как будто сломался человек. Чечулин, если бы не узкий френч, был бы толст, даже тучен, и когда он сгибается, то слышен тоже треск, но не в суставах, и кажется, что френч сейчас лопнет по шву. У Замшалова — усы, правда, черные, но они имеют склонность расти больше вниз, чем вверх, и верхняя губа совсем закрыта усами. У Чечулина же, напротив того, правый ус ровно такой же длины и такой же черноты, что и левый, и так же, как и левый, правый ус слегка раздается в ширину по выходе из ноздри — чем дальше отходит от ноздри, тем становится шире, пока не улетает в безвоздушное пространство острой и прямой, исчезающей в бесконечности иглой.