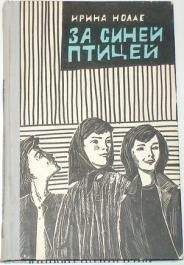— Понимаете, Воронова, — медленно произнес Белоненко, — все это, может быть, и правда, но и достаточно сложно, чтобы….
Тогда Марина спохватилась. Боже мой! Чего только она не наболтала ему! Ведь это же начальник лагерного подразделения! А она? Кто она, чтобы разрешать себе такие… непосредственные беседы с ним?
Марина встала.
— Простите, гражданин начальник. Я позволила себе…
— Ах, да перестаньте, Воронова! — он с досадой махнул рукой. — Ну зачем вы так? Это был очень хороший разговор, и когда-нибудь мы его обязательно продолжим. А сейчас вы просто ничего не сумеете понять. Вы же еще… очень и очень молоды…
Марину всегда обижало, когда ей говорили о ее молодости, и она сердито ответила:
— Мне двадцать четыре года, и я росла в детдоме, пока меня не взяла оттуда тетя Даша! Так что я достаточно…
— Ничего не достаточно, — мягко сказал он. — Вы еще ничего не знаете. Вот когда вам будет, скажем, тридцать четыре, как мне… Однако мы отвлеклись.
— Разрешите еще один вопрос? За что сидит Лиза Гайда?
Белоненко стоял теперь спиной к Марине, перекладывая на столе какие-то бумаги.
— А зачем вам это? — спросил он.
— Мне интересно…
Он повернулся к ней и, чуть помедлив, сказал:
— Я бы посоветовал вам не очень интересоваться тем, кто за что отбывает срок наказания. Это вас будет только сбивать… Узнаете вы, например, что перед вами воровка, или валютчица, или еще что-нибудь в этом роде, и никогда не попытаетесь найти в этом человеке ни одной человеческой черты. Вам только и будет видно, что его преступление…
— Но ведь Лиза Гайда не воровка и не убийца?
Белоненко обошел стол кругом, но не сел. Марина поняла, что он не хочет отвечать на ее вопрос. «А я все-таки спрошу, все-таки узнаю…».
— Не убийца и не бандитка?.. — настойчиво повторила она. — Не может быть, что эта женщина совершила какое-нибудь тяжелое преступление…
— Гайда — член семьи изменника родины.
Марина вздрогнула.
— Не может быть! — И подняла руку, словно защищаясь.
— Она получила срок, как член семьи изменника родины, — повторил Белоненко.
Некоторое время никто из них не произносил ни слова. Белоненко все еще стоял, облокотясь о край стола. Его лицо опять закрывала тень абажура.
— Я бы никогда не поверила… — упавшим голосом проговорила Марина.
Белоненко молчал.
Марина встала.
— Я пойду, гражданин начальник, — тихо сказала она. — И с завтрашнего дня я принимаю бригаду несовершеннолетних.
— Вот вы и начинаете взрослеть… — невесело усмехнулся он. — Жаль, что все это получается у вас немного не так, как нужно было бы…
— Ничего! — Марина подняла голову. — Это даже лучше… И пожалуйста, не спешите помогать мне. Я хочу сама. До свидания, гражданин начальник.
— Доброй ночи.
…Могла ли она теперь тосковать о неудачной своей любви?
Она медленно шла по дорожке, мимо умирающих георгинов, терпкий запах которых уже не волновал ее. Она старалась привести в порядок свои чувства и мысли, вызванные необходимостью осознать настоящее. Стал накрапывать мелкий дождь, но Марина не заметила этого.
Еще совсем недавно жизнь здесь представлялась ей как бесконечная вереница серых, повторяющихся дней, в которых не было ничего, кроме таких же однообразных, таких же бесконечно повторяющихся движений рук: левая рука автоматически берет лежащую на столе деревянную ложку, правая — кусочек наждачной бумаги, — с этого начинается несложный процесс ошкуровки. Ложка переворачивается, раз и еще раз, откладывается направо, где на доске, поставленной на табуретках, уже лежат готовые ложки и куда надо положить еще и еще десятки таких же…
А в соседнем цехе женщины прядут на самопрялках и повторяют одни и те же однообразные движения. А дальше — вяжут варежки, а в первом цехе шьют белье… И неважно, что будет делать Марина: прясть шерсть, или полировать ложки и миски, или шить на ножной машине один и тот же шов… Любую работу Марина воспринимала как нечто навязанное ей насильственно: она обязана выполнять то или это, потому что находится в заключении, потому что она наказана. Она должна работать добросовестно, должна выполнять норму, давать качество и количество. И она будет все это делать, не вкладывая в труд ни даже частицы души. Но почему?.. Разве это не тот же труд, что, может быть, ожидал ее там, на воле? Разве ее работа в госпитале, работа простой санитарки, грязная, тяжелая, изнурительная, разве та работа была легче, чище? Почему тогда Марина работала, вкладывая в свой труд не только все физические силы, но и всю свою душу?
Марина шла все медленнее, а дождь становился все чаще, все назойливее, но она не замечала его и даже не видела, куда идет.
«Кем вы считаете себя сейчас?..».
Тогда ей хотелось с вызовом ответить ему: «А кем я могу себя считать? Преступницей, аферисткой, сообщницей жулика!» Но даже в минуту крайнего раздражения Марина не могла произнести эти слова. Она не считала себя преступницей. Пусть совершена ошибка, пусть она поступила необдуманно, легкомысленно, но никогда не думала она о том, что помогает жулику в его темных делах. И все равно, что бы ни говорил следователь, какой бы срок ей ни дали, все равно — она была и осталась честным человеком. По крайней мере — для себя. Для себя?.. Кажется, он так и спросил: кем вы остались для себя?
Марина подняла голову и почувствовала мелкие холодные брызги. Дождь? Оказывается, идет дождь!
Она сдернула с головы платок и тихо рассмеялась. Как хорошо, что — дождь… Здесь, в зоне, за этим высоким забором. Вот ему не запретишь идти там, где он захочет! Он сеет мелкую пыль и на осенний лес, и на притихшие поляны, и на кустарники, и на ее поднятое ему навстречу лицо. Пусть мочит волосы! Можно даже расстегнуть телогрейку… Целый год она не замечала и не хотела замечать ничего: ни неба, ни звезд, ни солнца. Ей казалось, что жизнь остановилась в тот момент, когда в зале суда прозвучал приговор. А вот сейчас ей хочется ощущать холодные брызги, и немножечко продрогнуть, и прийти в барак, где тепло и даже уютно. Ну и пусть — коврик с лебедем. И хорошо, что эти маленькие вольности не преследуются… А то ведь можно с ума сойти, если все шесть лет — голые нары… «Каждый по-своему украшает здесь свою жизнь…».
Эти слова сказала Лиза Гайда год назад, когда Марину везли с пересыльного лагпункта на подразделение майора Кривцова.
— Поедете в единственном числе, — сказал Марине конвоир, отодвигая железный засов на деревянной решетчатой двери. — А если будет скучно — посмотрите в окошко. У нас в женском отделении вольготнее, чем в мужском. Преимущества оказываем. Да и от печки теплее.
Марина равнодушно выслушала слова конвоира, хотя порядком озябла, пока ждала прихода теплушки. Ноябрь в прошлом году был холодным, и в этот день северный ветер с утра сеял ледяной, обжигающей крупой. Но ни тепло от печки, ни окошко, которым похвастался конвоир, ее совсем не интересовали, как не интересовало ничто в жизни.
— Вы вот к этой стенке садитесь, — сказал конвоир, пропуская Марину вперед. — Здесь от печки тепло… Одеты-то вы больно легко, — добавил он, оглядев девушку с головы до ног. — Ну да ничего: приедете на место, там нам и валенки дадут и бушлатик.
Он почему-то помедлил у двери, но, видя, что Марина не хочет или не может отвечать, сочувственно вздохнул и тихо задвинул дверь. И тут же раздался сиплый свисток, вагончик дернулся раз, другой, что-то заскрипело, задрожало, и, неторопливо стуча колесами, «кукушка» повезла Марину в новую жизнь. С полным безразличием к этому новому и стараясь не думать о прошлом, Марина прислонилась к стенке и закрыла глаза.
Вероятно, она задремала, потому что, когда очнулась, за окном все было подернуто синими сумерками. Наверное, и снег прекратился. Вскоре «кукушка» остановилась, сильно дернув вагон. Марина видела через деревянную решетку, как конвоиры открыли наружную дверь и соскочили вниз.
«Хоть бы никого не посадили…» — болезненно подумала Марина и тут же услышала женский голос:
— Ну, пожалуйста, разрешите! В том вагоне я просто превращусь в сосульку! Отовсюду дует и никакого тебе отопления. Там не только человек — белый медведь окоченеет.
— Так ведь не положено, — ответил один из конвоиров, кажется тот самый, что принимал ее в вагон. — Мы здесь только конвойных возим.
— Да знаю я, господи боже! Возили и меня в этом вагоне! Но честное слово — я сейчас готова отдать вам свой пропуск, лишь бы согреться. Не доберусь я до конечной — умру. И оставлю записку, что в гибели моей виноваты два бессердечных, но исполнительных стрелка…
По интонации голоса Марина слышала, что говорившая смеется, и это вызывало в ней непонятное раздражение. Оказывается, здесь можно смеяться!