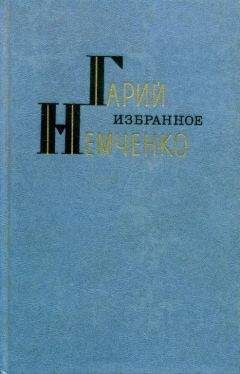Рядом с наковальней на выбитой, с остатками пожухлой травы земле высилась горка ухналей, а за спиной у коваля одно на одном лежали три или четыре колеса, висели на деревянной стойке хомут да уздечки, валялась под ними какая-то пестрая рухлядь, и, кроме кисловато-горького духа кузницы, под шатром слышны были разогретые костерком да осенней теплынью запахи сухого дерева, дегтя, старой кожи и еще чего-то, связанного с потными лошадьми да с пыльной дорогой...
Иван Яковлевич прокуренным пальцем шевельнул ухнали, спросил громко, как у глухого:
— Ты, я вижу, заканчиваешь?
— Все, Яковлевич, все! — заговорил кузнец слегка нараспев. — К вечеру с тобой, Яковлевич, рассчитаюсь... Старуха моя уже узлы связывает.
— Хэх, ты, ей-богу! — как будто обиделся управляющий. — Вот заладил! А о другом ты подумал: одним побродягой на дороге больше, одним меньше — какая разница? А тут ты — работник! Понимаешь? Ты мне только скажи, останешься, я сейчас за фотографом пошлю, и завтра на Почетной доске будешь висеть — руки-то у тебя золотые... Забирай себе этот дом, живи с богом, ребятишек твоих в школу определим...
Толстые усы у цыгана шевельнулись, сверкнули сахарно зубы:
— Этим рано!
— Ну, не на этот год, так на тот.
Около шатра послышался топот, цыганчата разом появились в косом проеме, сгрудились вокруг Васьки, стояли с набитыми ртами, жевали и судорожно сглатывали.
— Был бы коваль да у коваля ковалиха — будет и этого лиха! — кивнул на ребятишек Иван Яковлевич. — Вот они — не запылились!
Васька, преданно глядя на управляющего, протягивал ему широко раскрытый кулек из серой бумаги.
— Давай-ка! — Иван Яковлевич только заглянул в кулек и бросил его поверх пыхнувших углей. — Ну, правильно... никого не обделили?
— Мне не дали! — тоненько выкрикнула девчонка в длинной, до пят, цветастой юбке.
— Брешет! — уверенно отбрил Васька. — Она просто быстрей жрет...
— А вы хоть заработали? — строго спросил цыган. — Конфеты?.. Или на шаромыжку? Надо спасибо сказать. А ну, Колька!
Все разом расступились, а один, большеротый и большеглазый, вровень с кудлатой головой приподнял над плечами ладони с растопыренными пальцами и, покачиваясь то в одну, то в другую сторону, стал прыгать с ноги на ногу:
Фу!.. Фу! Не могу!
Я поеду у Москву!
Цыган перестал качать мехи:
— Стой, Колька! Зачем хлеб ешь, ты как неживой?
— Ты, Мишка, как тот уркаган, — подлаживаясь, рассмеялся Иван Яковлевич. — Тот кормит своего пацаненка, а пацаненок говорит: «Пап, мало!» — «Мало? Прокурор добавит!»
— А ну, ты, Васька! — негромко приказал цыган. — Давай на пузе.
Все еще продолжая жевать, Васька ничком бросился на землю, запрыгал на животе, задрыгал ногами, завертелся, и цыганчата, уступая круг, попятились в шатер.
— Ходи давай!
Иван Яковлевич незаметно подмигнул мне:
— Ну, хватит, хватит! — И, приподнявшись с чурбачка, стал подталкивать ребятишек на улицу. — Ступайте, пусть тут взрослые поговорят!
Цыган сидел, обе ладони положив теперь на колени и слегка приподняв разведенные в стороны локти:
— Петька! А ты на пузе?
— Ты нам зубы не заговаривай! — снова громко заговорил Иван Яковлевич. — Ты давай, Михаил, лучше еще раз подумай... Умный мужик, а тут, я гляжу, прохлопаешь. Ты скажи: обидел я тебя? Разве не по совести заплатил?
— Нет, Яковлевич! — построжал цыган. — Ты мне хорошо дал. Спасибо тебе. По совести.
— А так и всегда будет! Или к тебе наши мужики на огонек не подходили? Или ты с ними махорку не курил да разговоры не плел? У нас кто работает, тот не жалуется, да только в том и беда, работать некому... Ну?!
Глядя на меня, цыган отнял руки от колен, приподнял вверх ладонями и нарочно тяжко вздохнул: мол, хотел бы — да не могу!
Все это время я только с интересом прислушивался к разговору, красноречия Ивану Яковлевичу было не занимать.
— Ты мужик башковитый! — с жаром продолжал он убеждать. — А тут прошибешь, если доброго совета не послушаешь... Что, плохой дом? А я тебе говорю: бери! Твой. Да из этого дома знаешь, что можно сделать? Картинку!
— Я бы флюгарок наковал! — неожиданно загорелся цыган, и морщины на смуглом лице у него разгладились, виднее стал небольшой, с синими крапинками шрам под глазом. — Подул ветер, а они бы: скри-ип!.. Скрип!
— О! — горячо обрадовался Иван Яковлевич. — А ветра у нас только нынче и нету, и я тебе о том же! Да ты только скажи, что останешься! Знаешь мы тебе какую помощь устроим? На всю станицу. Весь мир придет! Думаешь, не обрадуются люди, что у дома — хозяин? За один выходной все сделаем. Тебе останется только самогонки наварить — умеешь самогонку?.. Ну я тебе специально человека дам, он научит...
— Яковлевич! — нараспев сказал цыган. — А ты?
— Что — я?
— Тоже зубы, Яковлевич, заговариваешь...
— Значит, нет?
Цыган опять приподнял руки, с сожалением покачал головой и прицокнул:
— Батюшкина коня, Яковлевич, не удержишь! Матушкину покромку не скатаешь...
Управляющий прищурился:
— Это что же?
— А ваша поговорка, меня один человек научил. Это ветер, Яковлевич. И дальняя дорога...
Друг мой ударил себя по колену:
— Хэх ты! Ну, хоть на недельку еще?
— Я к тебе, Яковлевич, лучше на то лето приеду.
Опять мы с управляющим шли по бокам узкой тропинки, на которой там и тут валялись теперь разноцветные обертки.
— Мы тут что? — как будто сам с собой рассуждал Иван Яковлевич. — Одно время совсем дожились. Казаки!.. А порядочного коня днем с огнем... Все техника да техника, а лошадей извели. А попробуй без них в наших-то горах! Когда непогода да грязь такая начнется, что танки не пройдут. А коняшка, он всегда выручит, ты ему только руку на холку положи. Когда меня назначили, я первым делом: заведу опять лошадей! И там и тут искал, и менялся, ты веришь, только и того, что не воровал. А справы никакой, все поразбазарили, от бричек одни короба пооставались. Ни седельца, одним словом, ни уздицы, ни той вещицы, на что надеть уздицу... вот как. А спецов — ты веришь? Механизатор — пожалуйста, а этих нет. Хоть Михаил, спасибо, выручил. Другой раз подумаешь: как подарок! Все поперечинил, всех лошадей перековал, а кует как? Она сама ему копыто подает, какой там тебе станок — все на руках! И как человек... Эх, Мишка, Мишка! Про них же что? Затем цыган мать бьет, чтобы жинка боялась. А этот как тихое лето. Вежливый, хоть за пазуху сажай... И знаешь что?
Иван Яковлевич остановился и меня за локоть попридержал.
— Временами подумаю, какой-то он... как бы сказать, тайный. И покрикивает по-ихнему, и шутки шутит, цыган как цыган, а что-то такое есть... Сперва их с ним много сюда приехало. Полный дом! Тут столько никогда еще не жили. А недели две назад — раз, нету молодых. Все уехали. Детишек им с женой пооставляли... Думаешь, это его? То внуки, а то так. — Иван Яковлевич оглянулся и заговорил совсем тихо: — Я так подумаю иногда: а среди них, среди цыганей, — баптистов нету?
Мне осталось только пожать плечами.
После обеда мы поехали на ближнюю ферму, а когда к вечеру вернулись в контору, счетовод Аграфена Семеновна, та самая тетя Феня, сказала, что «из района» звонил мой товарищ, просил предупредить: машина придет за нами туда завтра рано утром. Выходило, сегодня мне надо было уезжать. Иван Яковлевич огорчился:
— Ты что, не мог рассчитать, чтобы побыть хоть денька два-три? Ни на Батарею с тобой не съездили... Помнишь, это где мы с тобой видели журавлей, что слабому лететь помогали? Ни к старикам моим не сходили. Я к ним ездового посылал, заказал на вечер блины с калиновым вареньем да чай на травках... Ты чем, интересно, думал, когда сюда собирался?
Я оправдывался, говорил, что ничего не поделаешь, такая у меня на этот раз вышла поездка, но друг мой только махнул рукой и договариваться насчет машины ушел, явно расстроенный.
Я сел около конторы на скамейку и не успел оглядеться, как подбежал ко мне цыганчонок, сказал запыхавшись:
— Иди, тебя деда зовет!
Я сперва не понял:
— Какой деда?
— Какой-какой! Мишка. Цыган.
Старый яблоневый сад, где стоял шатер кузнеца, почти вплотную подходил к высокому обрыву, под которым среди меловых бережков неслышно неслась маленькая, но быстрая речонка. Здесь, на краю сада, горел небольшой костер, около него сидела старая цыганка, а рядом с нею, кто на подстилке, а кто просто на земле, лежали ребятишки.
Михаил устроился чуть поодаль от них на одном из тех чурбачков, что днем были у него под шатром. Другой стоял рядом свободный, и он дружелюбно кивнул:
— Посидите за компанию.
Я тоже стал глядеть на рябившую поверхность реки, которая в сумерках казалась зеленоватою. Над нею уже зыбился почти незримый вблизи туманец, дальше собирался, плотнел, и серые косые его пряди наползали на низкий противоположный берег, висели над потемневшими садами. На той и на другой стороне кое-где в домах уже красновато теплели редкие пока окна, горы над станицей сделались черными и притихли, снежники за ними синели далеким холодом и только одна, самая высокая вершина тонко пламенела в густеющем небе.