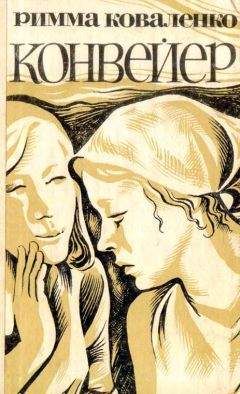Я представила, как Федька прочитает письмо, когда научится читать, какое у него будет несчастное лицо, и мстительно сжала губы.
После войны мы не скоро вернулись в родные края. Я закончила школу, поступила в университет, на третьем курсе вышла замуж. Когда родилась дочка и навсегда отрезала от меня первую, переполненную событиями и страданиями часть жизни, я стала иногда вспоминать наш двор, Осю, Лидку и Мишу-маленького. Где-то они?.. Однажды на афише я увидела Лидкину судьбу. В город приехала пианистка Лидия Коршун. Я сразу поняла, что это Лидка. Она вышла замуж и поменяла фамилию. Побежала на концерт, но это была не та, другая Лидка. Про Осю и Мишу-маленького я никогда ничего не слыхала.
Бабушка приехала к нам, когда ее правнучке Томке было два месяца, и дорастила ее до школы. У бабушки я нашла как-то справку, которая за ненадобностью попала в ее бумаги, да там и застряла. Не прочитал Федька моего детского злого письма. Не научился читать. В справке было написано, что она «дана в том, что Федор Гутников шести с половиной лет погиб в лазарете партизанского резерва от кашля».
Игнат пришел под вечер. Во дворе сгущались сумерки — самое время нашей беготни, дурных криков и смеха. Что-то вселялось в каждого из нас в этот предвечерний час, какая-то сила подхватывала, подстегивала, и мы не сопротивлялись ей, а только визжали и вскрикивали и неслись от сарая к воротам, от ворот — обратно к кирпичному забору, возле которого росли лопухи, пыльные, побитые нашими ногами. В один из таких вечеров я столкнулась с Осей, он упал и выбил себе зуб. В другой раз Лидка растянулась в лопухах и содрала до крови колени. Миша-маленький только и делал, что падал. Отставал от нас, сидел темным пятном во дворе, дожидался, когда мы, завернув у сарая, с гиком приблизимся к нему. Поднимался, пристраивался, старательно бежал, и снова падал, и снова ждал.
Иногда чья-нибудь мать или бабка врывалась в этот шабаш, хватала за шиворот свое чадо и без слов, взмахивая рукой, как жгутом, била по спине, голове, по чему попало. Мы останавливались, окружая жертву, но не делали никаких попыток выручить. Мы сразу сникали, становились хилыми, тихими детьми, почти над каждым из нас висел такой жгут. Но, несмотря ни на что, раз или два в неделю мы подхватывались и носились по двору, не думая о расплате.
Игнат появился, когда вся эта круговерть только начиналась. Мы с рыжей Лидкой еще смирно стояли у ворот, глядя, как Ося, расставив руки и выставив вперед голову, кружится на одном месте. Нас уже подмывало тоже вот так вытянуть в стороны руки и закружиться, чтобы потом выскочить из этого штопора на середину двора, но тут из ворот вышел Игнат.
Он шел не один. Рядом с ним катился велосипед, новенький, с высоким седлом и никелированным звонком на руле. Велосипед клонило в сторону, Игнат останавливал его, поднимал обеими руками и, тряхнув, со звоном ставил на землю.
— Он пьяный, — сказала Лидка.
Игнат подозвал меня:
— Садись, — и показал на раму.
Я почувствовала, как в удивлении, опередившем зависть, замерли Лидка, Ося, Колька и Миша-маленький.
Рама была на уровне лба. Я в отчаянии, что не осилю подъем, схватилась за нее руками. Но тут Игнат занес ногу над седлом, одной рукой подхватил меня и посадил впереди себя.
Мы поехали. Переднее колесо вихляло, но мы ехали, а дворовая, изнывающая от зависти рать бежала следом.
У сарая, на повороте, велосипед покосился, поплыл, и мы с Игнатом шмякнулись на землю.
— Цела? — спросил Игнат и снова посадил меня на раму и закрутил педалями в сторону ворот.
Мы еще не раз падали, поднимались и катили туда-обратно, пока Лидка не стянула меня с велосипеда. Она сама взобралась на раму. Игнату уже было все равно, кого везти, с кем падать, и они помчались в темноте по накатанному маршруту. Потом на раме сидел Ося, потом опять Лидка, я, Коля, и даже Миша-маленький раза два упал вместе с велосипедом, не выпуская из пальцев руля. После войны, в разные годы своей жизни, я мечтала, как случайно на улице встречу вдруг кого-нибудь из них. Чаще других представлялся Ося. Высокий аккуратный мужчина, в очках и с плащом на левой руке. Он смотрит на меня и боится поверить, что это я, волнуется, снимает очки, улыбается, в нижнем ряду посредине — золотой зуб, память от нашего двора и от меня.
— Ося, — говорю я ему, — почему мы лезли на эту раму, падали и снова лезли? Почему Игнат возил нас, не боясь изувечить?
Ося не знал ответа на этот вопрос. Тогда я стала представлять встречу с Мишей-маленьким. Это был круглый добродушный господинчик.
— Почему мы лезли на раму, я не знаю, — сказал бывший Миша-маленький. — Мы были детьми, в то время велосипед казался нам чудом. А Игнат… он мать твою любил. В нашем дворе у него голова шла кругом. Я не уверен, что в тот вечер он был пьяным. Скорей всего, не умел еще как следует управлять велосипедом. Помнишь, когда появилась твоя мать и стала ругать его, как тихо, твердыми ногами пошел он за ней со своим велосипедом?..
Я все помнила. Игнат появлялся обычно перед приходом матери. Выдвигал на середину комнаты стол, ставил бутылку с красным вином, нарезал сала, базарной колбасы, затапливал печь, которую сам в начале лета переделал в плиту. Чайник закипал, и тут приходила мать.
Она с порога строгими глазами глядела на стол и на Игната, снимала берет, плащ и, словно она тут не была хозяйкой, не спешила присаживаться к столу.
За столом Игнат как-то заговорил обо мне:
— Отправь ее к родным в деревню. Что ей тут летом болтаться? Там воздух чистый, простор.
— Я бы тебя куда-нибудь отправила, — ответила мать, — и чего ты только ко мне привязался. Ты мне всю жизнь перепутал.
Она всегда держала верх в их постоянном недобром споре, я сжималась, страдая за Игната. Он сидел за столом лицом к дверям; когда задумывался, то постукивал косточками согнутых пальцев по клеенке. Когда за этим занятием вдруг ловил мой взгляд, то смущался, убирал руку со стола и о чем-нибудь спрашивал. Однажды спросил:
— Хочешь поехать на море?
Я тогда совсем не представляла, что такое море, и ответила:
— Не хочу.
Мать все время с ним ссорилась, каждое его слово принимала в штыки и однажды довела до того, что он выскочил из-за стола, с размаху ударил ее по щеке и, не закрыв за собой дверь, убежал от нас. Я думала, что мать заплачет или побежит за ним, чтобы дать сдачи, но она закрыла дверь на задвижку, разделась и легла спать в постель. На улице еще было светло, а она уже спала. Я тоже легла на свою кровать за печкой. Если Игнат вернулся с дороги, то со двора увидел, что нас нет. Свет в этот вечер у нас не горел.
Его долго потом не было. Мать говорила подругам:
— Он меня чуть не убил. Теперь, если придет, я милицию позову.
Подруги были, как и мать, родом из деревни. Одна старая, лет тридцати, незамужняя, по имени Люда. Вторая сверстница матери, толстая, безалаберная Наталья. Люда считалась у них мудрой и непорочной, а Наталья ветреной и языкатой. Люда работала уборщицей в банке, а Наталья нигде не работала. Весной нанималась вскапывать и засевать огороды, а остальное время года ходила по домам стирать, глядеть за детьми. Деньги у нее никогда не задерживались, она их быстро пропивала, как говорили за ее спиной мать и Люда, «с мужиками на базаре».
Два раза на моей памяти Наталья выходила замуж. Один раз венчалась в церкви, а в другой — в нашем дворе устроила карнавал. Мужчины в женских юбках, старухи в вывернутых тулупах пели и плясали, а Наталья, покачиваясь, стояла под деревом в обвисшем белом платье, с накрашенными, пунцовыми щеками. Женихов я не запомнила, ни того, что был с ней в церкви, ни того, что во дворе. Мать после первой свадьбы сказала мне:
— Никогда никому не говори, что была в церкви. Забудь об этом.
Забылись только женихи, а церковь с печальными ликами икон, желтыми огоньками лампад и толпой молчащих людей осталась. На широком каменном крыльце церкви по обе стороны стояли и сидели нищие старухи. Наталья с женихом и все, кто был на их венчании, прошли мимо старух и ничего им не дали.
…Игнат пришел как ни в чем не бывало. Поговорил со мной, выдвинул стол на середину, стал выкладывать на него круги колбасы, бруски сала, банки и кульки. Мне даже есть расхотелось от такой прорвы, которую он приволок в чемодане. Растопил печь, поставил на табуретку таз, собрался мыться. Мне приказал:
— Беги за Натальей и Людой!
Стол ломился от еды, когда я привела Наталью и Люду. Игнат все приготовил щедрой рукой: что сало, что колбаса, что хлеб — все в толстенный палец, все горой над тарелками. Наталья и Люда, смущенные тем, что матери нет дома, чинно поздоровались с Игнатом, оглушенные неожиданным угощением, как неживые присели к столу. Мы брали всего по крошечке, не ели, а пробовали, чтобы не разрушить всю эту красоту до прихода матери. Я к тому же изнывала от страха, что мать придет и прогонит Игната, а если тот не уйдет, то позовет милицию.