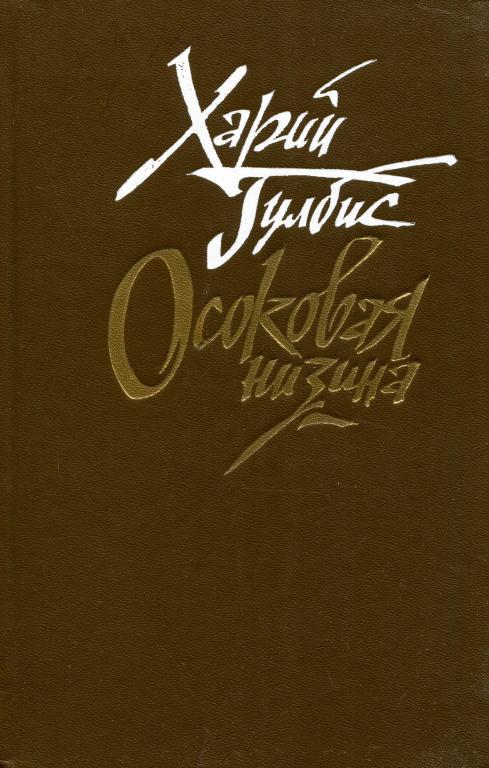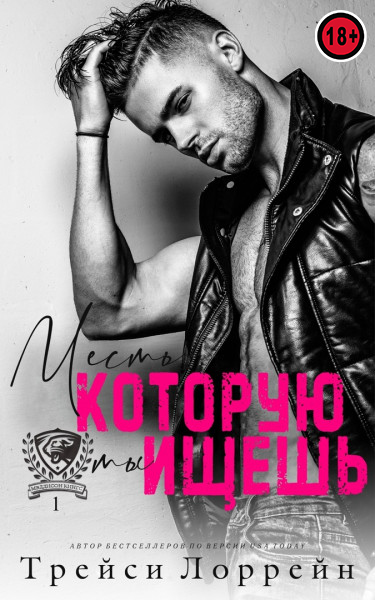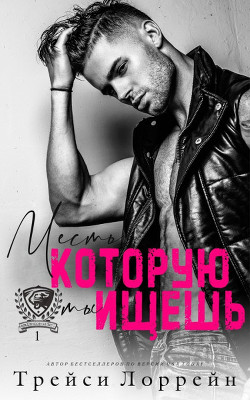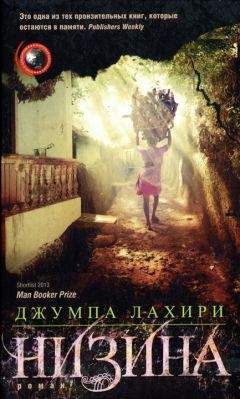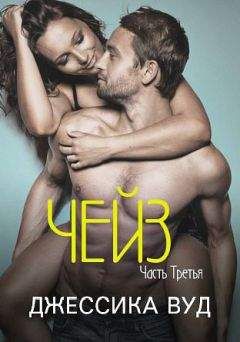вытекает, что, когда машины применяют, очень важен сознательный подход.
— Ну, конечно! Как же иначе!
— А вы довольны машиной, на которой работаете?
— Чем машина плоха? Коли следить будешь, вовремя смазывать…
— Скажите, папаша, сколько вам лет?
— Зимой стукнуло семьдесят.
— Ни за что не сказал бы. Вам больше шестидесяти не дать. Так что сил еще достаточно?
— Есть пока.
— Есть, как говорится, порох в пороховницах. Вы пенсионер?
— Да.
— Что вы делаете, когда не надо у машины быть? Как свободное время проводите?
Петерис растерялся. Сказать правду, что спит, постеснялся.
— Читаю газеты, слушаю радио.
— Песни вам нравятся? Ваша любимая песня?
Петерис пытался назвать несколько песен, отчасти запомнившихся с юношеских лет.
— Смелее, смелее! Не стесняйтесь!
— О море.
— Почему о море, а не о земле?
— Когда-то я моряком был.
— Но земля вас привлекала больше моря?
— Да.
Петерис густо покраснел. Понял, что не то сказал, а корреспондент уже перестал расспрашивать, выключил магнитофон, простился и ушел.
Вечером Петерис рассказал Алисе, что говорил для радио, и под конец добавил:
— Приперся дохляк этакий.
Передачи Петерис не слушал. У одного из сушильщиков был маленький транзисторный приемник, но Петерис позабыл, когда именно будут передавать. Да и неловко было идти слушать. Но все время Петериса что-то грызло, и, когда Алиса вечером сказала: «Нечего было про море говорить», он рассердился.
— Тебя не хватало! Много ты понимаешь!
— Я много не понимаю, но знаю, что моряком ты никогда не был.
— А ты видела, какой Енисей в самом устье? Триста километров шириной! Волны с дом!
К острову Диксон Петерис ходил лишь один-единственный раз.
— И нечего было на трактористов жаловаться.
— Все ты лучше знаешь!
Петерис презрительно прошипел, повалился на кровать и с головой накрылся одеялом. Прошло больше получаса, и он заговорил в полный голос, так, чтобы слышно было Алисе на кухне:
— Ясно, что про моряка говорить нечего было, но что скажешь в таком случае… Мартышке этакой!
Жатва подходила к концу, колхозное руководство торопило, обещало премии — хлеб шел потоками. Начались дожди, часто засорялись решета, и, пока их прочищали, вороха хлеба росли. Под самый конец вышел из строя транспортер. Чтобы не останавливать машину, Петерис сыпал хлеб в мешки и таскал наверх в бункер. Ступеньки были узкие, и, высыпая мешок, он должен был балансировать на одной ноге. Удивительно, что такой пожилой человек, как он, все еще был на это способен.
— Совсем как в цирке! — усмехался Вилис Вартинь.
— Попробовал бы сам!
— Я же не моряк. У меня голова закружится. Для меня и песенок никто не поет.
Вилис рассмеялся мелким, противным смешком, и Петерису захотелось врезать ему. Но уже пятьдесят лет он ни с кем не дрался, да и теперь некогда было. Бегал по ступенькам вверх и вниз, загребал зерно, таскал мешки. Спина взмокла, с носа капал пот.
Так прошло около часа. Но вдруг точно ножом ударило в грудь, в глазах потемнело. Спустившись вниз, Петерис упал, затем встал и сел на мешок с хлебом. Хорошо, что день кончился и веять больше не надо было. Приехав на велосипеде домой, он даже как следует не поел и лег в постель.
На другой день пришел фельдшер. Расспросил, послушал Петериса и сказал:
— Придется полежать. Сердце! Мужик-то кряжистый, только сердцу не угнаться.
БРУСНИЧКА
Промчалось еще десять лет. Быстрее предыдущих. Плечи у Петериса опустились еще ниже, он ходил, еще сильнее подавшись вперед, в глазах появилось грустное выражение, нередко в них мелькало недоумение и детская беспомощность. Тот, кто увидел бы Петериса впервые, не поверил бы рассказам про его огромную силу, мрачную нетерпимость, вспыльчивость.
На колхозную работу Петерис уже не ходил. В прошлую осень даже не пахал приусадебный участок, а велел Алисе позвать из Риги Ильмара. Кандидат наук еще не совсем забыл, как плывет по рыхлой земле плуг, и эта работа оказалась для него вроде занятной экскурсии в молодость. А Петерис смотрел, как сын пашет, счастливо улыбался и тайком вытирал пальцем глаза.
Петериса уже дважды лечили в больнице, сбивали кровяное давление, но не очень успешно. Он легко раздражался, боялся своей болезни. К нему домой ходил фельдшер Велдре, успокаивал, прописывал импортные лекарства. Петерис глотал желтые зернышки и белые таблетки, но не легчало.
Он решил, что надо отсосать лишнюю, плохую кровь, и послал Алису на пруд в «Лиекужи» за полосатыми пиявками. Напрасно она проделала такой длинный путь. В «Лиекужах» не только обвалилась половина построек, но исчез и пруд. Узнав от Анны Вартинь, что пиявки водятся где-то за Петушиной корчмой, Алиса пошла туда с баночкой, набрала пиявок и принесла домой. Протерев Петерису шею смесью, взятой в аптеке, Алиса извлекла из пожелтевшей воды самую крупную пиявку и приставила к телу. Она долго извивалась, соскальзывала, но все-таки присосалась. Убедившись, что пиявка крепко держится на шее, Алиса поставила другую, затем третью — всего пять штук. Пиявки, постепенно темнея и набухая, утомились и лениво отвалились. Алиса прикладывала к ранкам вату, смоченную спиртом, отирала шею, а кровь все сочилась и сочилась. Алисе было жаль мужа, да и не верила она, что эта отвратная процедура чем-то полезна.
— Больше не будем пиявок этих ставить.
— Можно и не ставить, — согласился Петерис.
Он выглядел испуганным и измученным.
Петерис лег на кровать, пытался уснуть, но не мог.
— Алиса! Нет у тебя подушки помягче? — крикнул он из своей комнаты.
Алиса принесла и положила свою.
— Она ведь как