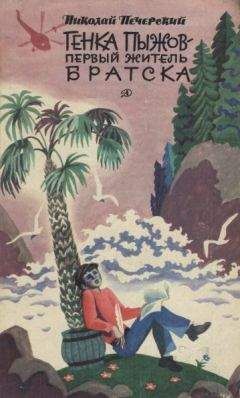— Мальчик, чайник! Мальчик, чайник!
Так тебе и надо. Будешь знать, как удирать из Сибири.
Глава пятнадцатая
МЕНЯ ХОТЯТ ПРИВЯЗАТЬ К ЧЕМОДАНУ. ПО НОВОЙ ДОРОГЕ. СОВСЕМ КАК В СТАРОЙ КНИЖКЕ…
Меня привели в отделение милиции и посадили на длинную скамейку.
— Где он украл у вас чайник? — спросил Джурыкина сержант милиции.
— У меня не было никакого чайника, — ответил Джурыкин.
— А почему же вы кричали «держи»?
— То есть как — почему? Он удрал от отца, с Братской ГЭС. Разве вы не видите? Посмотрите на него!
Сержант осмотрел мои грязные, растрескавшиеся ноги, засаленную рубашку и почесал в затылке.
— Так вы, значит, его отец?
Джурыкин поморщился, как будто разжевал гнилой орех.
— Еще чего не хватало! Разве у меня может быть такой сын! Я просто хороший знакомый. Еду добровольцем на Братскую ГЭС.
Теперь уже поморщился сержант. Он укоризненно посмотрел на Джурыкина и сказал:
— Вот видите, гражданин, какие у вас знакомые…
— Какой он знакомый! Хулиган, и все!
— Гражданин, попрошу не путать! Вы только сейчас сказали: «Хороший знакомый». Я не глухой.
— Я не про Генку говорю. Про отца.
— Ах, про отца. Это дело другое. Что же вы намерены делать с этим беженцем?
Джурыкин впился в меня глазами:
— Если бы мне разрешили, я бы его убил.
Лицо сержанта помрачнело. Он прошелся по комнате снова сел к столу и начал барабанить пальцами по толстому, в чернильных пятнах стеклу.
— Так что же все-таки вы хотите с ним делать?
— Повезу к отцу. Пусть сам расправляется.
— А если сбежит?
— Не сбежит. Веревкой к чемодану привяжу!
Сержант вздохнул, вырвал из блокнота листок и протянул Джурыкину:
— Пишите расписку.
Джурыкин обмакнул перо и задумался.
— А как ее писать, в какой форме?
Сержант стал диктовать, как учитель в классе:
— «Получен позорно сбежавший со строительства Братской ГЭС мальчик в количестве одного человека…»
Джурыкин отдал расписку, простился со всеми милиционерами за руку и повел меня по перрону.
Под деревом с пыльными листьями сидели на чемоданах Люська и ее мать. На коленях у Люськи лежал толстый словарь в черной обложке. Люська очень обрадовалась мне и спросила:
— Гена, ты уже акклиматизировался в Сибири?
— Это еще что за акклиматизация?
— Разве ты не знаешь?
Люська открыла словарь и прочла:
— «Акклиматизация: процесс приспособления животных и растений к новым условиям среды обитания».
— Разве я животное?
— Геночка, чего ты обижаешься? Совершаешь аморальные поступки и еще кричишь!
Ну, теперь началось…
Люська стала рассказывать московские новости. Но и тут, конечно, не обошлось без буквы «а».
— А я тебе письма везу, — сказала она. — Из редакции прислали. Целых шесть штук. Наверно, снова какие-нибудь абстрактные ответы.
Но мне было совсем не до писем. Я смотрел на Джурыкина и думал: что он теперь будет со мной делать? Может, и правда привяжет к чемодану?
Джурыкин пошептался с женой, а затем сказал:
— Садись на чемодан и не смей двигаться с места. Я пойду куплю тебе билет.
Я сел, как приказал Джурыкин, на чемодан и стал один за другим распечатывать конверты. Письма прислали из различных газет, но отличить их друг от друга было невозможно, как хороших двойников. Начинались они словами «Уважаемый товарищ Лучезарный» и заканчивались словами «к сожалению». И все же письма обрадовали меня. Год назад послал стихи, а о них не забыли, не выбросили в мусорный ящик…
Для того чтобы попасть в Братск, совершенно не нужно путешествовать до самого Иркутска. Об этом я уже писал, когда мы с отцом были у старинного приятеля Игошина. Московские пассажиры должны делать пересадку в Тайшете, а уже отсюда по новой железной дороге Тайшет — Лена ехать в Братск.
Жаль, что по этой новой дороге мы поедем только до Братска. Неплохо было бы прикатить к берегам великой сибирской реки Лены, а оттуда поплыть на пароходе в Якутск. Впрочем, можно отправиться и дальше, до самого моря Лаптевых, в северный морской порт Тикси.
Но об этом я мог только мечтать. Моя жизнь и моя дальнейшая судьба были сейчас в руках Джурыкина…
Но вот пришел и Джурыкин.
— Собирайтесь, — сказал он, — через пять минут придет поезд.
Мне собирать было нечего. Я изорвал в мелкие клочки письма с абстрактными ответами и взял в руки чайник. — Где ты купил этот самовар? — удивленно спросил Джурыкин.
— Это не мой чайник. Это фальшивого добровольца. Джурыкин даже не поинтересовался, кто это такой фальшивый доброволец. Он лишь махнул рукой и подал мне узел, из которого выглядывал угол подушки и ручка электрического утюга.
Вагон был переполнен. Плотно прижавшись друг к другу, пассажиры сидели на скамейках, узлах, чемоданах. Нам с Люськой уступили место возле окна. Люська положила словарь на столик, облокотилась на него и прильнула к стеклу. Поезд постоял несколько минут и тронулся. За окном поплыли мачтовые сосны, белые березки, заросшие травой лесные озера.
Изредка Люська отрывалась от окна и, поблескивая , очками, говорила:
— Гена, но ведь это абсолютная тайга! Там, наверно, много анофелеса. Правда?
Неужели нельзя сказать просто — малярийный комар? Боюсь, что Люська приедет на Падун и моего бывшего приятеля Комара тоже будет называть анофелесом!
Пришло время обедать. Мать Люськи отрезала ломоть хлеба, положила на него кусок колбасы, сыру, подумала и прибавила еще:
— Ешь. Прямо жаль на тебя смотреть!
Мы обедали и рассказывали друг другу о своей жизни.
— Я очень скучала по тебе, — говорила Люська. — Выйду во двор, посмотрю кругом — абсолютная пустота. Думаю: «Почему так пусто? Кого не хватает?» Даже апатия нападет. А потом вспомню и заплачу. Оказывается, это тебя нет. А ты скучал по мне, Геночка? Скажи без амбиции.
И что это Люське взбрело в голову говорить таким кисло-сладким тоном: «Геночка», «скучал», «апатия»!..
Но все-таки я тоже сказал Люське, что скучал. Это
была правда. На Падуне я часто вспоминал наш большой московский двор, Люську и те вечера, когда Джурыкины приходили к нам в гости.
Приближался вечер. Все вокруг стало розовым — и березки за окном, и полосатые километровые столбы, и салфетка на нашем столике, и Люськино лицо. Люська смотрела на меня из-под очков каким-то странным, загадочным взглядом и говорила:
— Геночка, давай с тобой никогда-никогда не ссориться и все время быть вместе. До самой смерти…
Я чувствовал себя очень неловко. Что ответить Люське? Как поступить? Кстати, после размолвки с Комаром я уже не особенно верил в дружбу до гроба. Обещал, клялся и так жестоко обманул! Я задумался о своей жизни на Падуне. Вспомнил Комара, Степку, старого лоцмана. Как они встретят меня, что скажет отец? Ничего хорошего от этой встречи я не ждал. И все же меня тянуло к суровому Падуну, высокому красавцу Пурсею и нашей темной избе на берегу синей стремительной Ангары…
Люська тоже умолкла. Она придвинулась ко мне и вдруг, совсем как в старой книжке, склонила голову на мое плечо. Я боялся пошевельнуться, чтобы не разбудить Люську. Она улыбалась во сне тихой, задумчивой улыбкой, как будто видела перед собой что-то очень хорошее, еще не совсем знакомое, загадочное, как длинная, запутанная сказка…
Я долго крепился, но все-таки не выдержал и тоже уснул. Время во сне мчится быстро. Казалось, только минуту назад я закрыл глаза, а за окном был уже не тихий розовый вечер, а светлое, ворвавшееся в вагон потоком золотых лучей таежное утро.
— Граждане пассажиры! — послышался в вагоне голос проводника. — Приготовьтесь, сейчас будет Братск.
И вот снова Братск. Знакомая кишка. Падунский порог… Великое путешествие окончено. Геннадий Пыжов идет по улицам поселка без кепки и почти совсем новых ботинок. В руках у него жалобно дребезжит чайник фальшивого добровольца…
Глава шестнадцатая
«СЖАТИЕ СЕРДЦА». ПИСЬМО ОТ БАБУШКИ. ТРИ НИКОЛЫ БОЛЬШОГО НИКОЛЫ
Я потянул ручку на себя и открыл дверь. Возле окна, согнувшись над сетью, сидел лоцман.
— Пришел, однако, бегун? — спросил лоцман, когда я вошел в избу.
В голосе у него не было ни удивления, ни желания расспросить о моих подвигах и скитаниях.
— Пришел, дедушка…
— Вижу, что пришел. Отец твой, однако, убивается. Принес ему в госпиталь телеграмму от Джурыкина, так он аж задрожал весь. Насилу врач успокоил. Впрыскивания какие-то сделал.
— Вы что, дедушка, говорите? Какой госпиталь?
— А вот такой-этакий. Сжатие сердца отец получил из-за тебя.
Я видел, что лоцман не шутит.
— Мой, однако, ноги, — сказал он, — надевай Степкины сапоги и айда к отцу. Успокой его, несчастного.
Пока я умывался и мыл ноги, лоцман рассказал, что произошло на Падуне после моего побега. Оказывается, все думали, что я утонул в Ангаре. Выходит, я был неправ во всем и зря обижался, что отец не пожелал разыскивать меня.