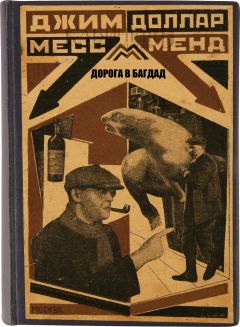Внизу, под ногами, шелестели изредка листья, не в пору упавшие с веток. Ветер лежал низко и, поворачиваясь на другой бок, дышал жаром отяжелевшего дня меж ногами редких прохожих. Встанет, покружится, шурша листьями, бросит горстью сухой и щебневой пыли в лицо замечтавшемуся, побежит полосой, закачав фонарем залитое пространство взад-вперед, то туша язычок фонаря, то его раздувая, а после вдруг сгинет, и нет его. Сухо, душно, нечем дышать.
Задев Якова Львовича платьем, прошла одинокая женщина. От платья ее потянуло пылью и гарью.
Одиночество торжественным сонмом звезд, расширяющихся в усталых глазах, как предметы перед засыпающим человеком, сонное, светлое, оплывало сознанье…
Вдруг кто-то сказал перед ним по-немецки, сквозь зубы говоря с собой:
— Schon wieder![16]
И в шепоте Якову Львовичу послышался старый знакомый; он вскрикнул:
— Доктор Яммерлинг!
Спичка чиркнула, свет прошел по фигуре под деревом, привставшей со скамейки бульвара.
— Херр Мовшензон, поразительно!
Два старых соседа за столом табльдота в пансионе города Мюнхена, два бывших товарища по книге и выпивке, пораженные, остановились друг перед другом.
— Вот кого не ожидал я повстречать ночью в России! Вы на военной службе? Пришли с оккупантами?
— Я корреспондент.
Доктор Яммерлинг что-то хотел прибавить, но внезапно осекся. Он вышел согреть перед сном торопливой прогулкой холодную кровь, дать успокоиться пальцам, как паутиной, опутанным привычно-ползучими ласками. Он знал, что оставленная среди душных подушек, волнуясь, ждет его Геня, ненасытно наивная и не догадавшаяся еще о том, что она недовольна. И мысли его были смутны.
Стоявший сейчас перед ним Яков Львович тоже устал. От недоедания и от бессонницы все время шумело в ушах у него, отдаваясь в мозгу комариною песней. Кровь била в них слабо, и от слабости сладко покруживалась голова. Истощенному Якову Львовичу хотелось заснуть, укачавшись от звезд; и, глаза от них отрывая, он думал, что это звезды жужжат, заплыв ему в вены. Тысячелетняя нежность, с какою еврей глядит на вселенную, к тысячелетней отверженности, налегшей на плечи, прибавилась и стиснула сердце.
— Пойдемте пройдемся.
Так они шли, разговаривая, около часу.
Меж Ростовом и Нахичеванью дорога идет по степи. Слева скверы, летом пыльные, с киосками лимонада, сладких стручков и липкой паточной карамели в бумажках. Днем и вечером в них толпятся солдаты, шарманщики, франтоватые люди прилавка. По воскресеньям усердно гудит здесь марш «Шуми, Марица» и вальс «Дунайские волны». На запрещенье не глядя, налускано семечек по дорожкам несчетно, и дождь их сыплется, как из крана, из неутомимых ртов днем и ночью, заменяя скучную надобность речи.
Справа лежит дважды сжатая степь, уходя к полотну железной дороги. Исчертили ее колеи проезжих дорожек. Пылится она постоянно взметаемой из-под колес белой пылью, трещинами покрывается к осени, как сосок у небрежной кормилицы, и не дает ни влаги, ни тени.
Нет спасенья от духоты июльскою ночью! В Темернике над черной, миазмами полною лужей стиснутые друг ко дружке, закопченные стены домишек задыхаются от жары и от страшных вздохов близкой гостьи: холеры.
Напрасно измученные работницы, с трудом укачав грудного, изъеденного комарами и мухами и лежащего, обессилев, в поту на серой простынке, открывают, что могут: дверь, окошко, печную заслонку. Воздух не хочет течь. Влаги у неба нет. Задыхается, иссыхая заразой, Темерницкая лужа.
А у соседа за стенкой топтанье: сосед бежит, что ни миг, в отхожее место. Потом и бегать не стал, рыгает и стонет. Кричит надрывно жена над ним:
— Жрал огурцы, окаянный! Говорила я тебе, о господи, мука моя…
Отвечает муж между стоном:
— Замолчи ты, что-нибудь жрать-то ведь надо!
Назавтра свезут его, как и другого и третьего, из Темерника, дышащего смрадною лужей, в холерный барак, а оттуда в могилу.
— Видите вы все это? — обводит перед Яммерлингом рукой Яков Львович. — Тут живут высшие созданья природы, люди, наделенные разумом. Но у них нет даже силы на похоть, доступную зверью. Изглоданные, как ребра домов после пожара, слабые, словно травы по ветру, с истощенными своими детенышами у иссякших грудей, проходят они по жизни поденщиками, погоняемые кнутом. Они умирают раньше, чем поняли, что могли бы лгать лучше. Я вас спрашиваю, это ли идеал вашей церкви?
Яммерлинг с насмешкой ответил:
— Удивительно любите вы и подобные вам сводить спор на мелочи. При чем тут идеал церкви? Только вы взбадриваете их, заставляете всем, что у них есть, жертвовать будущему, а устроить их лучше не можете и не умеете. Мы же даем им высшее утешение, ту бодрость, при которой идут они своею дорогой, с ней примиренные, и получают максимум им доступного счастья.
Яков Львович взглянул ему, при мерцании звезд, в глаза, узкозрачковые, зеленые, как у кошки: изжит идеализм христианства!
— Вот что скажу я вам, доктор Яммерлинг, — помолчав, сказал Яков Львович, — если б даже слова эти не были бредом, ни один из прекраснейших детей человеческих, кто вдохновением двигает жизнь, не согласился бы на это. Он бы ответил: пусть лучше будет проклято мое вдохновение, если мы неравны и я заранее осужден быть всем, а он — ничем. Посмотрите-ка, не вы, не я, не нам подобные средние люди, а цветы человечества, самые лучшие, самые мудрые, алкали о справедливости. Это вам не убедительно? Вы не хотите приспособлять свою душу к законодательной совести гения?
— Нет, положительно, вы семит. Только уничиженному выгодна эта вечная апелляция к совести, — с раздражением ответил католик.
Он разгорячился от ходьбы и спора. То и другое он делал искусственно, как моцион. Кровь побежала быстрее по жилам, пальцы согрела, выжала капельки пота на бритые щеки духота тяжелеющей ночи. С подделкой под жизненность, живо, как мальчик, он остановил Якова Львовича на тротуаре, торопливо пожав ему руку.
— Пора, не то попадем на ночевку в комендатуру!
И, повернувшись, он зашагал к Нахичевани, туда, где в душных подушках, горячая, сильная, на цыпочках перейдя спальню спящей Матильды Андревны, поджидала его, терзаясь течением времени, красивая Геня.
И снова ночь, раскаленная, как деревенская банька без росы, без капли крупного дождика из нависшей тучи тяжкая, иссушающая.
И снова ласки, одни и те же, холодно расчетливые, с перебоями отдыха, чтобы дать набраться по капле скудеющей крови к паутиной опутанным пальцам. И думает Геня с шевелящимся ужасом в нетерпеливом, стыдом обожженном сердце: «Это… вот такое… любовь?»
Улыбается чей-то рот, червяком извиваясь над деснами. Улыбаются чьи-то пустые глазницы. Корчатся крылья огромной летучей мыши, перепончато опрокинутые над миром. Душно дышит отравою умирающий, но дни его сочтены.
Он бессилен дать семя.
Глава восемнадцатая
СТЕПНАЯ СУХОТКА
Цык-цык-цык-цык — заводит кузнечик музыку по шероховатым кочкам земли на убранном поле. Не всякий пойдет сюда босиком, да и в сапогах: земля оседает, оставшиеся колосья пребольно вонзаются в пятку или зайдут под подошву, неровные шрамы земли удесятеряют дорогу. Вольно кузнечику одному: цыкает, благословляя безводье.
Вот уже месяц, как не идет дождь. Станицы молотят хлеба. Каждое утро на высоких повозках свозят с бахчей ребята арбузы и дыни. Казачки, повязанные по самую бровь, сидя в кружок на земле с детьми и соседками, длинною палкой колотят по чашкам подсолнухов, наваленных перед ними целою грудой. Чашки полны почерневших семян. Ребятишки грызут их сладкую мягкую корку. А поколотят палкой по чашке — и сыплются семечки прямо на землю, выскакивая все сразу и на земле бурея от пыли.
Домовитые старухи варят из гущи спелых арбузов черную жижу: будет она по зиме к чаю идти вместо сахара.
А старики возятся с желтою жижей навоза: наваливают его перед домом, уплотняя лопатой, бьют по нем спинкой лопатной, обрызгивая проходящую курицу, и растет вперемежку с соломой навозная куча, — понаделают из нее кизяку для топлива.
Носится в воздухе белая пыль молотящегося зерна. В ноздри заходит, в уши, на шею под воротник. Как у персика, лег ее пухлый налет на круглые щеки.
Но со степи приносит ветер нехорошие запахи, а из города привозит казак нехорошие вести. Фельдшер обходит станицу, расклеивая объявление:
Не пейте сырой воды!
Не ешьте сырых овощей!
Перед едой мойте руки!
Истребляйте мух!
Истребишь их! У казачки Арины поедом едят мухи умирающего ребенка. Мрет ребенок от живота: что ни съест — вырывает. Жарко ему, голенький на клеенке, со вздутым, как резиновый шар, животом, с тоненькими, словно ленточки, ножками, ручками, лежит и помирает. Где ж тут мух отогнать от младенчика в рабочую пору, когда бабьих рук на всякое дело не напасешься. И мухи знай залепляют глазенки, ползают по лицу, по ноздрям, по слюнке, бегущей на подбородок, гнездятся под шейкой ни много ни мало — десятками. Моргает дитя, раскрывая большие грустные глазки. Мухи взлетят и снова садятся, липкими ползунами охаживая беззащитное личико. И глаза, загноившиеся в углах мушиною слизью, смотрят с кроткою стариковскою мудростью и с безысходным терпеньем. Маленький, зря ты вышел из материнской утробы!