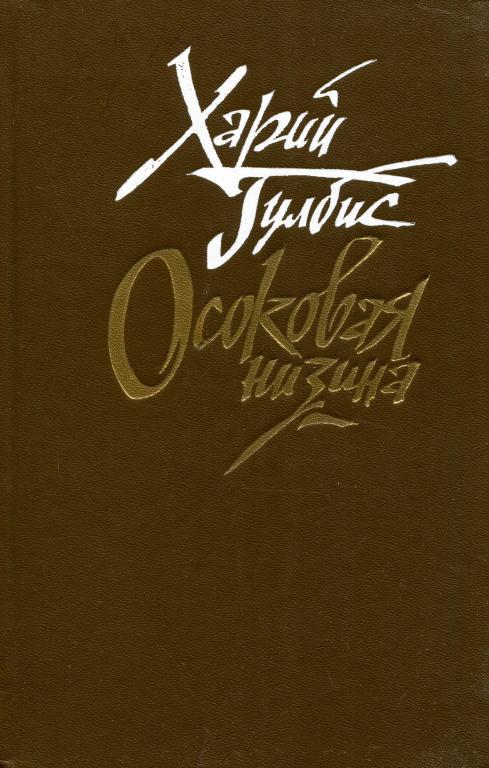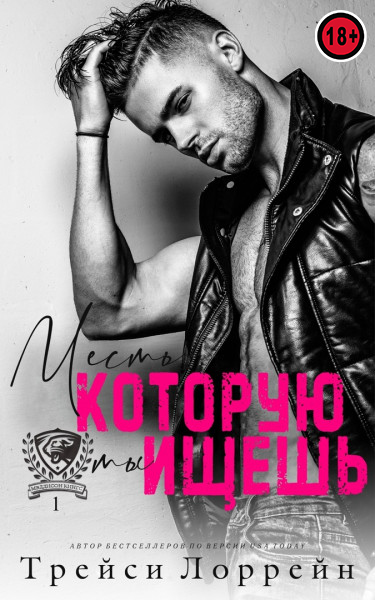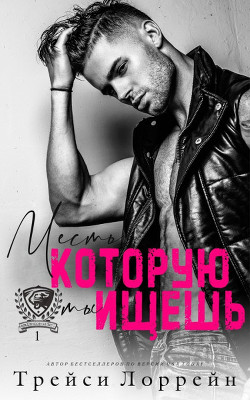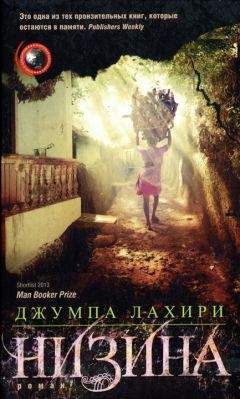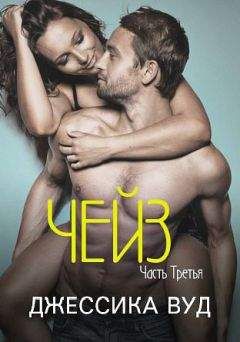у тебя чувствую себя как в гостях.
Эрнестине было горько слышать это.
— Я больше ничего не значу для тебя?
— Милая мамочка! Да ведь отец-то в Граках.
— Отец не заслужил, чтобы ради него жертвовали собой.
Эрнестина уже рассказала дочке, как скверно выказал себя Густав когда-то в России, и теперь еще раз напомнила:
— Ты чуть не умерла.
Но на Алису это не произвело особого впечатления. Она серьезно сказала:
— Все это было очень давно. Теперь отец совсем другой. А я ничем не жертвую. Мне там нравится больше, чем здесь.
— Что там может нравиться?
— Ведь здесь нас ненавидят. Тетя Нелда и бабушка тоже.
— Пускай ненавидит. Тебе-то что?
— Я так не могу. Хочу, чтобы все были мною довольны, рады мне…
Эрнестина долго говорила Алисе о том, как мало на свете любви, как много равнодушия и ненависти, что повсюду она будет сталкиваться с людьми несправедливыми, не избежать этого и в Граках, что человек сам должен заботиться, чтобы его не унижали, а уважали, и Граки лишь временное пристанище, которое придется вскоре оставить.
Алиса все смиренно выслушала и под конец сказала:
— Мамуся, перебирайся к нам жить!
— Ах, детка!
— Мы должны жить все вместе.
— Почему?
— Потому что я так хочу.
— Ты? Разве ты умеешь что-нибудь хотеть, требовать? Ты всегда для других стараешься. Почему же ты не хочешь послушаться меня?
Вечером, когда они лежали в постелях, Эрнестина сказала:
— Видно, ничего другого мне и не останется, как переехать к вам, в деревню. Уж такая моя судьба…
— Мамочка!
В марте, когда у Густава было больше досуга, он приехал в Ригу, погрузил на сани семейные пожитки и увез в Граки. На переезд ушло два дня. Эрнестина добралась поездом. Вскоре Курситисы купили корову и поросенка.
— Так. Ну вот мы еще в большей яме, чем были, — сказала Эрнестина.
— Почему же? — возражал Густав.
— Опять на земле живем, и гораздо дальше от Риги, чем раньше, опять у нас корова, поросенок. Остается только грабителей ждать.
Густав, немного помолчав, сказал:
— Здесь мне лучше, чем там под Ригой. Теперь я хоть жалованье получаю.
— Рудольф прав. Только на то и годишься, чтоб служить другим.
Густав работал много, добросовестно. Уже в августе он повез на рынок белый налив и другие ранние сорта. Но в Бруге евреи, немцы и зажиточные латыши были прижимисты, роскошные фрукты, коль они дороги, их не прельщали. Поэтому Густав с Алисой бережно укладывали яблоки в ящики, прокладывая их сеном и мхом, чтобы поездом или на армейских грузовиках отправить в Ригу. Яблоки поплоше Густав сбывал сам, хорошие продавал магазинам. В Риге выручку сразу относил полковнику, а деньги, привезенные из Бруге, сдавал хозяйке. Безопасности ради полковник снабдил Густава револьвером, велев взять в полиции разрешение на оружие. Густав стерег хозяйские деньги. А Винтеры стерегли самого Густава. Яблоки всякий раз в присутствии хозяйки взвешивали. Это было неприятно и портило настроение, но крупные недоразумения начались зимой.
— Точно помню, в ящике было два пуда, так почему же теперь на восемь фунтов меньше? — недоумевала хозяйка.
— Потому что яблоки потеют, — объяснил Густав.
— Видно, с ногами этот пот, — неприятно ухмылялась хозяйка.
Густав пожаловался полковнику: никогда не крал и красть не собирается, подозрительность хозяйки оскорбительна. Полковник был умнее своей мамаши. Густаву он, конечно, не поверил, как не поверил бы никому, он считал, что крадут все, что другой крал бы еще больше. Мамаше он запретил впредь дотошно проверять Густава: какой в этом смысл? Сколько ни взвешивай, как уследить, почем Густав их продает. Курситисы никогда не брали себе хороших, шедших на продажу яблок, тем более Густаву в голову не приходило присвоить из выручки хоть рубль. Но хозяйка терпеливо выжидала, в надежде уличить Густава. Вот что случилось осенью.
Густав задумал омолодить сад. После посадки осталось несколько десятков плохеньких яблонек, которые Густав отдал по дешевке окрестным новохозяевам; деньги он оставил себе как вознаграждение: ведь закладывать питомник ему никто не поручал. Хозяйка пронюхала об этом, и полковник вычел эти деньги из жалованья.
— Эти деревца были бросовые, — оправдывался Густав.
— Зачем же вырастили их?
Вопрос был глупым.
— Я мог вообще не возиться, никаких не выращивать.
— Так зачем все же выращивали?
— Чтобы вам не покупать их, не тратиться.
— Понимаю, для меня это выгоднее, но, поскольку я свою землю вам в аренду не сдавал, а деревца выросли именно на ней, то яблоньки, естественно, принадлежат мне. Такова, к сожалению, логика вещей, — втолковывал полковник.
В такие минуты Курситисам хотелось уйти из Граков, поселиться где-нибудь поближе к городу, даже, может быть, вернуться в Ригу, но всегда приходили к одному и тому же выводу:
— Надо еще потерпеть.
За этим «надо» можно было скрыть неразрешенное и неразрешимое, водрузить на него, как на постамент, надежды на лучшее будущее, но в это «надо» успели вцепиться и привычка, страх перед неизвестными переменами, опасения, что в другом месте может быть еще хуже. Все-таки Курситисы считали, что у них нет особых оснований жаловаться на свою долю.
Вместе с вещами Эрнестины Густав привез в Граки и зингерскую швейную машину. Сперва Эрнестина переделала кое-что для госпожи Винтер, затем сшила хорошее платье госпоже Дронис, и благодаря заботе и связям лавочницы появились первые клиентки. Несмотря на то, что многое из того, чему ее учили в молодости, Эрнестина уже успела позабыть и не считала себя профессиональной портнихой, — шитье никогда особенно не влекло ее, — она, будучи сообразительной и усидчивой, вскоре снискала себе славу умелой мастерицы. В домик садовника все чаще наведывались почтенные местные дамы, и присущая многим женщинам склонность, раздеваясь на примерке, заодно