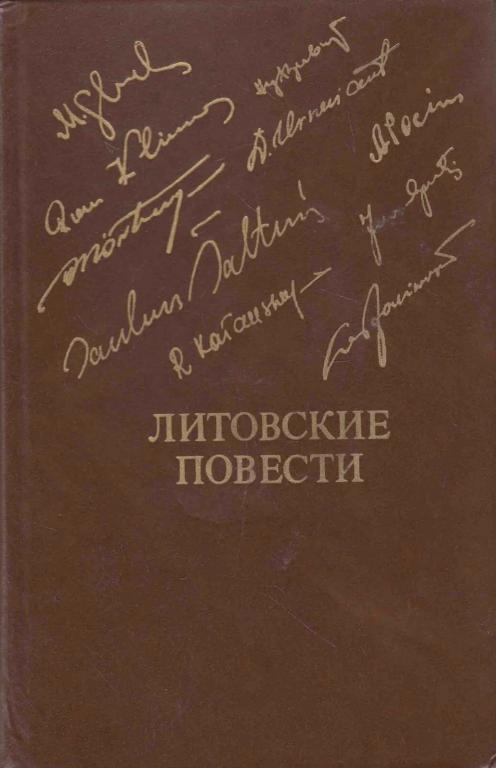близкие; одни сидели на широких деревянных скамьях, другие стояли вдоль стен, курили, разговаривали.
Донатас выглядел спокойно, он был собран, подтянут, на лбу залегла сетка мелких морщин.
— Не убивайся, старик, — сказал ему Ромас.
— Ну, улыбнись же, — подговаривала Дита.
Донатас улыбнулся.
— А все-таки чего-то немножко жаль, — сказал он.
У меня никак не умещалось в голове, что мы действительно провожаем друга. Хотелось убедить себя, что это обыкновенная прогулка, что вскоре все мы, в том числе и Донатас, разойдемся по домам, а сейчас просто нужно выполнить какую-то пустую формальность. Как бы желая удостовериться в этом, я огляделся вокруг. Мое внимание привлек какой-то паренек, стоявший поодаль от других с крохотным чемоданчиком в руке. Видимо, его никто не провожал. Мне он показался всеми оставленным и забытым. Я подошел.
— Вы просто молодец, — сказал я. — Позвольте выразить вам свое восхищение.
Паренек выслушал меня, но ничего не ответил.
— Вы не хотите со мной разговаривать?
— Вы хватили лишнего, — сочувственно сказал паренек и отошел в сторону.
— Весьма сожалею. Но вы — просто молодец. Все пессимисты и ничтожества, только вы один — простой, скромный человек, способный найти оптимистическое начало даже в такой ситуации. Разве не так?
— Оставьте меня в покое, — попросил он.
— Мне грустно, — продолжал я, — что вы не понимаете всего трагизма.
Дита положила мне на плечо руку.
— Будь же разумным, — шепнула она. — Не болтай всякую чепуху.
— Ладно, Дита. Но он ведь не понимает всего трагизма…
— Ну, прошу тебя.
— Хорошо, Мартинас будет молчать. Но ему больно. Вы на меня не сердитесь? — спросил я паренька. — Ну и отлично!
Дита отвела меня в сторону.
— Послушай, Дита, — сокрушенно зашептал я, — мне хочется плакать… Если б ты знала, как это трудно: оценить друга в последнюю минуту, не оценив его по заслугам за все прошедшее время!..
В зале появился пожилой майор и стал вызывать призывников по фамилиям. Мы услышали и фамилию Донатаса.
— Есть, — четко отозвался он, но мне показалось, что голос у него чуть дрогнул.
Майор дал рукой знак присоединиться к другим. Молча каждый из нас расцеловался с Донатасом и пожал ему руку.
— Будем писать, — обещали мы, а Лайма всплакнула.
Потом захлопнулась дверь с выцарапанными на ней именами и датами, за ней исчез наш Донатас, не видно было и того паренька, который был трезв, как стеклышко, и не хотел понять всего трагизма…
Домой возвращались молча, словно мы чем-то провинились друг перед другом.
Экзамены я одолел без особых трудностей. Виртуозно подсказывал товарищам, без устали отплясывал твист на выпускном вечере и только в шестом часу утра явился домой. Ключа, как назло, я с собой не взял, топтался у двери, держа под мышкой подаренные в школе книги, и наконец решился постучать, так как услышал, что отец уже мелет на кухне кофе. Он открыл мне дверь. Лицо его осунулось после бессонной ночи, но, увидев меня, отец улыбнулся и неодобрительно прищурил один глаз.
— Эге, братец, — сказал он, кутаясь в халат, — да ведь ты весь мокрый.
Мы пошли на кухню, и я полотенцем вытер голову.
— Возвращаясь домой, — принялся я рассказывать, — мы решили нарвать девчонкам акации. Мне пришлось лезть на дерево, и я весь вымок в росе. Видишь, сколько книг? И когда я успею их прочитать…
— Ты потише, — сказал отец, — мама еще спит.
Я сел на табуретку, выложил на стол аттестат и впервые закурил вместе с отцом.
— Брось, брось сигарету, — тихо сказал он и поморщился, как от внезапной зубной боли.
— У меня теперь паспорт и аттестат зрелости без троек, — сказал я. — Стало быть, не хватает только трубки…
Отец ничего не ответил, налил две чашки кофе и поставил на стол. Взяв в руки аттестат, он пробежал его глазами.
— Это мой билет на голубой экспресс, — пояснил я.
— И в каком направлении?
Я отпил глоток кофе и смутился. Как это я не подумал, что отец прежде всего задаст именно такой вопрос!
— Направление пока неизвестно, — сказал я уклончиво, — но поверь мне — хорошее.
— А пора было бы уже знать, — он укоризненно посмотрел на меня. — Твои товарищи, наверное, уже знают?
— Почти, — ответил я. — Ромас поступит в политехнический, сейчас он просто спятил: хочет построить гокарт; знаешь, такой автомобильчик, похожий на детскую коляску. Донатас ушел в армию… Лайма избрала английский язык.
— Ну а ты?
— Я не хочу торопиться.
— Тебе нравится работа на заводе? — спросил отец.
— Я думаю, мне надо еще поработать…
— Не торопись, если так. Но подумай. Сам думай. А теперь — марш спать, — вполголоса заключил он. — Только тихо.
Я не стал возражать, хотя имел и паспорт, и аттестат. У меня едва держалась на плечах голова, она тяжело спадала на грудь, как переспелое яблоко. До сих пор еще она была набита математическими формулами и всякими другими премудростями, накопившимися за одиннадцать лет, а к тому же еще винные пары, музыка и мысли о будущем. Я уснул, преисполненный сознания того, что теперь, пожалуй, я мог бы сойти за оракула, — до того тяжелая и мудрая была у меня голова.
В субботу Генрикас признался мне, что он был свиньей. Я сказал, что он действительно настоящая свинья, но только лучше сейчас не вспоминать об этом, и мы все выехали на озера. Я радовался этой прогулке, потому что чертовски устал от экзаменов и надеялся отдохнуть. Место мы выбрали отличное, подальше от людей, и все утро провели, загорая на солнце. Знойная тишина разморила нас всех. Хорошо было лежать на горячем песке и без помехи, вволю глядеть на синее раскаленное небо. Наконец все проголодались и сели обедать. Ели мы тут же, усевшись в кружок на песке. После обеда Генрикас вытащил из корзинки бутылку красного вина и стакан. Лайма с Дитой отказались, Ромас отпил глоток, встряхнулся, сказал, что это сумасшествие пить в такую жару, и посоветовал оставить на вечер. Я тоже потянулся, но что-то удержало меня. Генрикас сидел понурившись, держа между ног никому не нужную бутылку, и казался подавленным. Заметив, что я рядом, он улыбнулся, налил стакан и протянул мне. Жест был дружеский и доверчивый.
— Выпьем за здоровую человеческую натуру, — предложил он.
— Человеческая натура — это слишком туманно, — сказал я. — Лучше за мужество.
Он, не спуская с меня глаз, кивнул головой. Я поперхнулся, выпивая залпом полный стакан.
После этого выпил он и начал говорить о себе. Говорил долго, медленно, как бы оправдываясь; я сначала удивился — к чему такие разговоры? Потом следил за его словами, как-то рассеянно, а