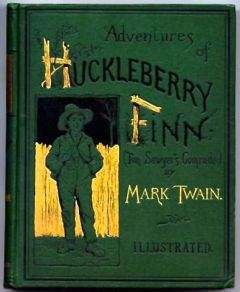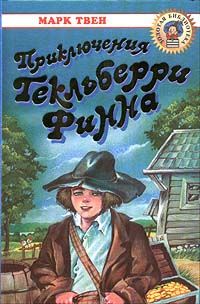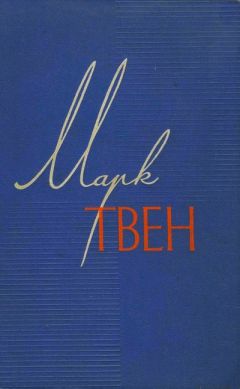Халдей Халдеевич вскочил, всполошился.
— Вам бы домой пора, пора домой, — ласково сказал он и потрогал Ногина за рукав, — как же можно, как можно! Ведь так здоровье может пострадать.
Он не докончил и побежал к стойке, копаясь в маленьком, затрепанном портмоне.
И Ногин позволил замотать себе шею шарфом, и позволил застегнуть пальто французской булавкой, и пошел за Халдеем Халдеевичем, опустив голову, вытирая ладонью мокрое от слез лицо.
— Ростепель, сильный ветер, скользко очень, очень скользко, — бормотал Халдей Халдеевич.
6
И в самом деле, стояла сильнейшая ростепель и гололедица. Весна, которую не вовремя выдувал ветер с Балтийского моря, торчала в лужах, висела на мокрых домах. Была простудная, промозглая, мерзкая погода.
Тучков мост, голый, как ладонь, лежал перед ними под оседающими фонарями. Справа и слева от него симметрическими, невзирая на ветер, рядами стояли петровские здания. Город, как никогда, казался выдутым из кулака, высосанным из пальца. Конечно, здесь и должны были произойти все эти Енисари и Койвусари — финские деревушки с зайцами и франтами в синих жилетах.
Санкт-Питер-Бурх! Парадиз!
Нужно было без всякой борьбы отдать всю эту музыку шведам.
7
Откуда взялся малиновый чай, которым старик поил его в этот вечер?
Он поил Ногина малиновым чаем, до седьмого пота, он жарил яичницу, он долго и хлопотливо готовил ему постель — переворачивал матрац, взбивал подушки. Он ухаживал за ним с трогательной заботливостью. И Ногин послушно пил малину, ел яичницу, какие-то гренки и бутерброды, послушно разделся и лег.
Он лег, и вздохнул полной грудью, и позволил покрыть себя одеялом, и своей шинелью, и драповым пальто Халдея Халдеевича. Ему стало легче. Блуждания по улицам и по трактирам, декламация, слепые музыканты — все было кончено. К черту! Довольно мудрить, пора взять себя в руки! Завтра он встает в шесть часов утра и садится за работу.
— Да, да, так что же с вашим братом? — сказал он, приподнявшись и с тревогой глядя на Халдея Халдеевича.
— Ну, полно, полно, спите, голубчик, — пробормотал Халдей Халдеевич, и все подернулось сонным спокойствием, туманом, теплом.
И сквозь тепло, которое уже бродило по телу, он видел, как Халдей Халдеевич примостил на столе осколок зеркала, налил в стакан горячую воду. Облезлая кисточка, как скромное видение, возникла в его руках. Он брился старательно, медлительно, но как бы с яростью. Ярость играла на его запачканных мылом губах.
Он начисто сбрил свою рыжую бороденку и, торжествующий, похожий на сморщенную обезьянку, на цыпочках пошел по комнате в бесконечность, в успокоение, в сон.
8
Но если бы Халдей Халдеевич знал, что, расправляясь так решительно с единственным украшением своего лица, он не только не достигнет цели, но, напротив того, лишь усугубит сходство с корыстолюбивым, развратным, буйным братом — он бы уклонился, он воздержался бы от своего необдуманного поступка.
Профессор Ложкнн бунтовал. В ночь на 26 апреля он тоже сбрил бородку.
Крошечный, но очень веселый, в халате, лихо накинутом на одно плечо, он разбудил жену и сказал ей, с удовольствием растирая пальцами гладкие щеки:
— Вот посмотри, Мальвочка, как тебе кажется? Лучше? Мне кажется, да! Лучше! Гораздо лучше!
И, не дождавшись ответа от ужаснувшейся, остолбеневшей, сонной Мальвины Эдуардовны, он скоренькими шагами удалился в свой кабинет.
В кабинете он долго ходил, трогал пальцами корешки книг и негромко, но очень игриво пел. Он пел старинную шансонетку:
Не плачь, не бойся, дочь,
Как верная жена
Невинность в эту ночь
Ты потерять должна, —
с французским припевом. Из зеркала на него глядело маленькое, сморщенное лицо с чужим, незнакомым, детским подбородком. Подбородок оказался детским, со смешной нашлепочкой, о которой он позабыл.
Это был уже настоящий бунт. Системе кабинетного существования был нанесен непоправимый урон. Некоторым образом система эта и опиралась на седую академическую профессорскую бородку.
Но, к ужасу Публичной библиотеки и Академии наук, дело не кончилось уничтожением бородки. На следующий день Ложкин явился на лекцию в огромных, толстых, залихватских очках, более приличествующих кинорежиссеру, журналисту, начинающему адвокату, чем ординарному профессору Ленинградского университета. И точно — можно было потерять голову, глядя на мир через такие очки.
Но он не растерялся, напротив того — действовал уверенно и, главное, с легкостью, с легкостью необычайной.
Он переменил прическу; серо-седые волосы его были зачесаны теперь вверх, кончались кокетливым коком.
Он выкопал из гардероба старинный вязаный жилет с янтарными пуговицами и немедленно надел его на себя. И угадал — потому что очень похожие заграничные жилеты как раз в ту пору начинали входить в моду и у нас.
В продолжение каких-нибудь двух-трех дней он завалил свой кабинет множеством ободранных, неопрятных книг, среди которых был роман об Антоне Кречете и серия в 35 выпусков о палаче города Берлина.
Бог весть что он искал в этих книгах!
Он читал их с любопытством второклассника, запершись на ключ от жены и прислуги. Морщась, поминутно поправляя тяжелые очки, он копался в этих книгах, как бы надеясь прощупать… он и сам не знал, что прощупать. Должно быть, какую-нибудь возможность отшутиться от самой идеи своей о бабьем лете или второй молодости.
От Антона Кречета и палача города Берлина он переходил к своему проекту.
Проект был написан очень сухим, деловым языком, но почерком нарочито неразборчивым — надо полагать, профессор боялся, что проект может когда-нибудь попасть в чужие руки.
Он содержал что-то вроде формулы отречения, а от чего отречения — тому следовали пункты. В пунктах стояли, между прочим, пенсне и бородка и (что было написано условными знаками) жена Мальвина со всеми родственниками, выдуманными и настоящими.
Вслед за женой, следующим параграфом, профессор отрекался от квартиры.
9
Весьма возможно, что этот проект никогда не был бы приведен в исполнение, напротив — навсегда остался бы в бумагах профессора Ложкина как следы идеи весьма забавной, но бессильной тем не менее повлиять на его почтенное существование, если бы вскоре после составления проекта к нему не явился коллега Леман.
Он пришел грустный и торжественный, в изодранной шинели, которая, как сенаторская тога, возлежала на его тщедушных плечах.
Стеснительно улыбаясь, он остановился в дверях кабинета.
Рыжий бобрик его торчал задумчиво, очень серьезно.
Ложкин предложил ему сесть, и сам опустился в кресло.
В кабинете было холодно, неуютно.
Книги с закладками стояли вдоль стола, штора задернута.
Закладки были большие, белые — они были следами брошенной работы. Он устало отвел глаза.
— Чем могу служить? — спросил он.
Коллега Леман молча вытащил из кармана шинели записную книжку с траурной рамкой на переплете и неторопливо пометил что-то. «Ложкин, Степан Степанович, профессор», — пробормотал он.
— Я нашел в библиографическом указателе список ваших книг, профессор, — сказал он почтительно, — и вот мне бы хотелось узнать… Это такие толстые книги (он показал пальцами) или брошюры?
Ложкин протер пальцами очки. Он был несколько озадачен.
— Собственно, почему же брошюры? Нет, именно книги.
— Понимаю, значит, такие толстые книги. Благодарю вас.
Откинувшись на спинку кресла, поднеся близко к глазам свою записную книжку, коллега Леман долго скрипел карандашом.
— А где вы родились? — спросил он внезапно и уже как будто с некоторой строгостью.
Ложкин, серьезно моргая глазами, посмотрел на него и испугался. Посетитель был рыжий, тихий, невозмутимый, торжественный.
Он вовсе не смеялся. Напротив того, он смотрел на Ложкина грустными глазами. Это было грустное превосходство еще живущего человека над покойником.
— Собственно, я родился… Я родился на юге, — несколько теряясь, сообщил Ложкин.
— Как на юге?
Леман положил на стол карандаш и взглянул на профессора поверх пенсне.
— Но мне же говорили, что вы родились в Белоруссии. Может быть, все-таки не совсем на юге…
— Нет, на юге. В Николаеве, — слегка упавшим голосом пробормотал Ложкин.
Леман долго и неодобрительно смотрел на него.
— Ну, как хотите, — сказал он наконец. — Но, возможно, кто-нибудь другой родился в Белоруссии? Ваша жена или дочь?
Ложкин с недоумением покрутил шеей и обиделся.
— Виноват, позвольте, как это, — сказал он, начиная с нервностью постукивать пальцами по столу, — а, собственно, чем же я все-таки обязан вашему посещению? Чем могу служить?
— Видите ли, я занимаюсь преимущественно покойными белорусами, — объяснил Леман. — Я именно с этой точки зрения обратился к вам. Но если вы не белорус, мне придется отнести вас в смешанный отдел. В котором году, профессор, вы окончили гимназию, реальное училище или кадетский корпус?