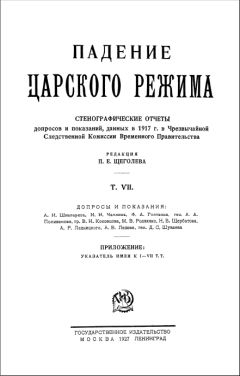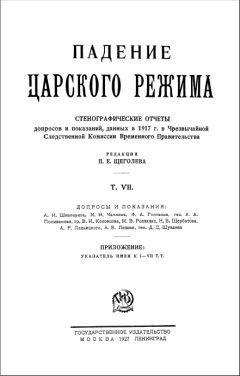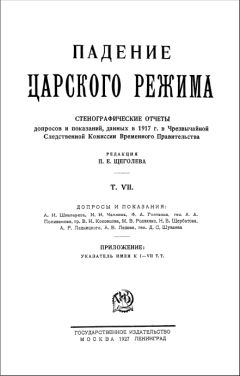— Где он, Леонид? — услышали мы. — Не вздумай соврать, что его здесь не было! Я знаю, что он здесь. Я могла бы прийти ночью и застала бы его у тебя!
— Ночью его не было, Ира, — ответил отец.
Она не обратила внимания на его слова…
— Я знаю, что он живет у тебя давным-давно, Леонид! Его нет дома уже пять лет! Он улетел тогда с тобой из Свердловска, да, да! и с тех пор я одна, как перст! И я прекрасно понимаю, Леонид, что он у тебя ищет и находит. Он ищет избавления от меня, потому что я для него — это слезы, нотации, комендантский час, военное положение, цензура и трибунал — так он считает, Леонид, а ты, Леонид, — это вседозволенность, вот что он почуял давным-давно! В твоем номере он может ходить из угла в угол, как безумный чемпион мира по ходьбе, и никто ему не скажет, что швы еще не окрепли и даже не сняты! Где он?
— Сейчас позову.
Но она опять не услышала. А мы с Татьяной, стоя в трех шагах сзади, не могли двинуться с места, точно загипнотизированные ее взвинченным монотонным голосом.
— …и, кажется, я могла бы надеяться, Леонид, хоть сейчас, хоть один раз в жизни, что ты мне поможешь. Но ты, наоборот, подбиваешь его на новые подвиги, соблазняешь своей распутной свободой… и тебе плевать, что я могу оказаться в больнице, потому что я больна, Леонид, и только сослуживцы будут меня навещать, а он будет мотаться бог знает где, в какой-нибудь такой дали, что даже на похороны мои не успеет приехать, ясное дело, не успеет!
— Ира!
— Больше всего я опасалась, Леонид, что наступит время, и он пойдет по твоей дорожке!
— Знаешь, он не пошел по моей дорожке. Он пошел по своей, — примирительно произнес отец.
— Это страшно несправедливо, Леонид! — продолжала мать как заведенная, как будто с закрытыми глазами. — Ведь это не ты сидел у его кровати по ночам, когда он болел и чуть не умер… не ты его выхаживал, не ты над ним трясся… все, что он получал от тебя, это твои денежные подачки, да и то потому, что я их требовала, а то бы и этих денег не видать! Я его вырастила, а не ты… и вот ты являешься, как всегда молодой, полный сил… являешься на готовое… а я живу только уколами и лекарствами, разве это справедливо?
— Что ты от меня хочешь, Ира? Чтобы я умер? — тоскливо спросил отец.
— Да уж лучше бы ты умер, когда он был маленьким! — безжалостно выкрикнула мать. — Говори, где он!
— Тут мы, тут… — прошептал я осипшим голосом.
Мы сдвинулись с места, вошли в номер; я держал Татьяну под руку. Отец стоял у окна, сам на себя не похожий, с перекошенным каким-то лицом. Лиля сидела на уголке тахты бледная, как малокровный ребенок. Мать обернулась и негромко охнула. Что она увидела на наших лицах? Приговор себе, что ли? Или в том, как мы вошли, плечом к плечу, неразрывные и неразделимые, точно один человек, чувствовалась безмолвная угроза тем, кто встанет на нашем пути? Не знаю. Но что-то же она разглядела сразу — пугающее и непоправимое, как, предположим, клеймо на лбу, какие раньше ставили безнадежным преступникам… Мать отступила в сторону, попятилась, и я услышал ее мысленное: «Неужели?» — и сказал ей мысленно: «Да, мама, да!», а Татьяна мысленно подтвердила: «Это правда, Ирина Дмитриевна», а отец, приняв наше безмолвие за испуг или слабость духа, вдруг свирепо рявкнул:
— Вот смотри! Вот они! Кого здесь опекать? По кому плач? Жизнеспособная супружеская пара, черт побери!
Все-таки мы с Татьяной, а затем и мать, вышибли его из колеи — он сорвался, вроде того, как иногда со звоном слетают с колок гитарные струны.
— Ирина Дмитриевна, — сказала Татьяна, принимая удар на себя. — Мы с Костей зарегистрировались, это правда. Нас можно поздравить.
— Да, черт побери! — повторил отец. — Я лично поздравляю.
У матери с всхлипом, протяжно вырвалось:
— Господи! Я знала, что этим кончится. — И с новым всхлипом: — И ты им позволил, Леонид?
Она говорила о нас в третьем лице, будто мы были где-то далеко за тридевять земель, а не рядом с ней.
— А как, интересно, я мог запретить им? Каким образом? Отобрать у них паспорта? Заковать в кандалы? Избить до полусмерти? Как, интересно? И почему я должен им запрещать? Какое у меня на это право? Нет у меня такого права, черт побери. И у тебя тоже.
Мать прислонилась спиной к стене. Глаза у нее были какие-то мутные, невидящие, а голос упал до шёпота:
— И вы даже не посоветовались со мной?..
— Ирина Дмитриевна! — вырвалась вперед Татьяна, опережая меня. — Как мы могли с вами советоваться, вы подумайте! Ведь тогда Костя никогда не был бы женат.
— Замолчи, — приказал я.
— Что?!
— Замолчи.
Матери было дурно; лицо у нее посерело. Отец схватил графин и налил воды в стакан, но она оттолкнула его руку.
— Это несправедливо! — сильно сказала мать.
Я бросился к ней. Однажды у нее уже был сердечный приступ; это случилось прямо в магазине, около прилавка, но тогда она, отдышавшись, сумела сама дойти домой… Я подхватил ее под мышки; у нее подкосились ноги, и она начала оседать вдоль стены. Отец тоже подскочил, и мы вдвоем перенесли ее на тахту. Татьяна уже звонила по телефону, перепугано кричала: «Приезжайте быстрей… Здесь женщине плохо…» Лиля, вскочив с тахты, потерянно забилась в угол около торшера. Все мгновенно изменилось, будто по чьей-то сильной и злой воле: дунул порыв ветра, потемнело, кажется, даже прогрохотал далекий гром… так мне показалось. «Ивакина! Ивакина! — кричала Татьяна по телефону. — Сколько лет? Сколько лет, Костя?» — «Сорок три», — быстро и глухо ответил за меня отец.
Мать тяжело дышала с закрытыми глазами. Я схватил ее сумочку и высыпал все, что там было — деньги, гребенку, ключи, заводской пропуск, письмо какое-то, — на стол. Я думал, что есть валидол, но лекарств никаких, кроме но-шпы, не оказалось. Вообще-то я знаю, теоретически знаю, что надо делать в таких случаях. Не потому ли я пошел в медицинский (сам себе в этом не признаваясь), чтобы рядом с матерью был домашний врач? Но сейчас я растерялся, поплыл, как на экзаменах… Отец сообразил быстрей, чем я: в гостинице могла быть аптечка. Он выбежал из номера.
Я наклонился над матерью. Меня трясло. Я бормотал:
— Мама, слушай… Никуда я не уеду. Ты что, поверила, что я уеду? Никуда я не уеду. Никогда в жизни, слышишь? Танька, скажи!
И Татьяна заверещала не своим голосом: ну, конечно, нет! конечно же, нет, Ирина Дмитриевна! — как будто такие утешения снимают боль в сердце. Лиля юркнула в ванную комнату. Она хоть этим хотела помочь — не маячить на глазах у матери.
Отец возвратился с таблеткой валидола. Он приподнял голову матери; движения у него были твердые, точные…
— Уйди, Леонид, — прошептала мать.
В дверь сильно застучали; вошли двое: мужчина и женщина в белых халатах. Оперативно приехали, страшно оперативно!
Отец тоже хотел поехать в больницу, но я ему сказал: нет! И еще сказал, когда залазил в фургончик «скорой», куда на носилках уложили мать: «Молись богу, чтобы все обошлось! Слышишь?» И Татьяне я запретил ехать; никого не хотел видеть рядом.
Дальше все закрутилось как на убыстренной скорости — будто пластинку, рассчитанную на тридцать шесть оборотов, запустили на семьдесят восемь.
В ту ночь я не заснул ни на час, и Татьяна тоже. Она меня успокаивала, Танька, как могла (но что толку!), и в конце концов, на меня глядя, сама раздергалась как невропатка. Несколько раз я звонил в больницу, откуда меня днем выгнали, и дежурная только одно твердила: положение тяжелое… но я и без нее знал, что положение тяжелое… Затем позвонил отец (он сам связался с больницей) и чужим, незнакомым голосом сказал:
— Плохо с матерью, Костя, — и, помолчав, добавил: — Послушай. Мы сейчас приедем с Лилей. Ты не против?
— Не вздумай. Не пущу, — только и сказал я, бросив трубку. Потом Поля. Потом Любомиров. А впрочем, все было не так.
Не та последовательность.
Татьяна рассказывала, что, когда я уехал на «скорой» с матерью, в номере появился Любомиров. Я думаю, что после нашей беседы он на третьей скорости рванул к нам домой, не застал там мать и, поколесив по городу, вырулил к гостинице. Наверно, у него были самые лучшие намерения: побеседовать со своим институтским дружком, забыв старые обиды, затем подвезти мать (и, возможно, меня) до дому — короче, сгладить остроту ситуации, как он это умеет. Но вышло по-иному. Узнав о том, что произошло, Любомиров вдруг молча кинулся на отца. На что он рассчитывал — непонятно, при его-то хилости и тщедушности. И вообще, едва ли отец хоть раз в жизни допустил, чтобы его кто-то ударил. Он мигом скрутил дружка и усадил в кресло… По словам Татьяны, он рассердился не на шутку — я думаю, не потому, что Любомиров на него кинулся, этого он мог ожидать еще двадцать лет назад… но ведь все произошло в присутствии Лили и Татьяны, вот что его взбесило.
— Хочешь, вмажу? — по-молодому спросил отец, стоя перед поверженным в кресле Вадимом Павловичем. Тот хватал ртом воздух, ему самому медицинская помощь не помешала бы.