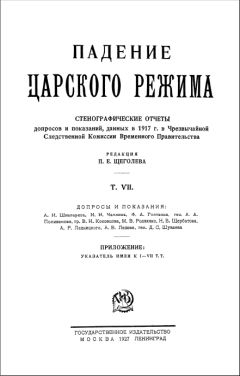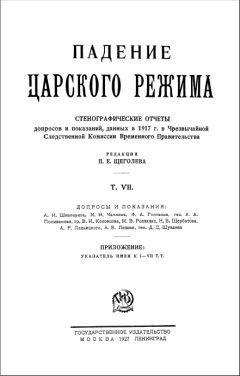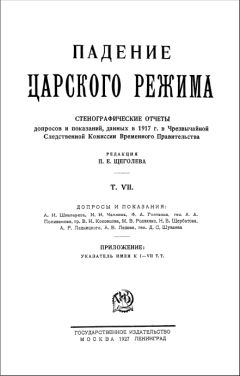— Хочешь, вмажу? — по-молодому спросил отец, стоя перед поверженным в кресле Вадимом Павловичем. Тот хватал ртом воздух, ему самому медицинская помощь не помешала бы.
— А вы выйдете! — крикнул отец Лиле и Татьяне. — У нас разговор. Мы давние друзья, черт побери. Есть что вспомнить.
Жаль, меня не было рядом; уж я бы не вышел, нет, и еще неизвестно, чью бы сторону взял в этой драчке. Но они, Лиля и Таня, выскочили из номера как ошпаренные — ну, Татьяна ладно, а этой Лиле за что достается, за какие грехи? Отпуск называется, медовый месяц!
Так что беседа бывших друзей осталась неизвестной, и она была краткотечной — минут десять, не больше. Любомиров вышел из номера с таким лицом, точно надышался угарного газа, неверными, слепыми шагами. Странно, что он не попал в аварию на своем драндулете, когда после этой беседы помчался в больницу.
Едва он ушел, Лиля бросилась в номер, а Татьяна за ней. Отец стоял у окна; он даже не обернулся. Лиля кинулась к нему, обняла за плечи и зашептала быстро, взахлеб: «Леня, я тебя очень люблю, очень люблю…» — точно этими словами хотела спасти его и себя. А отец глухо ответил: «Знаю, Лиля. Спасибо».
Оба они забыли о Татьяне, не замечали ее.
Отец взял Лилю за руки. Он сказал медленно и угрюмо:
— Слушай… а может, Костя прав? Может, тебе действительно надо уехать?
— Уехать? Куда? — выдохнула она.
— Ты мне очень дорога, — продолжал отец так же медленно и угрюмо, — это правда. Но я не могу дать тебе никаких гарантий… понимаешь? Подумай, Лиля. Может, нам стоит расстаться?
— Расстаться?
— Ну да, может, стоит… Видишь, что происходит? Подумай, Лиля.
— Нет! Ты мне этого не говорил! Нет! — перепуганно закричала она.
Что там дальше происходило — неизвестно; Татьяна попятилась и выскочила из номера.
Затем у нас дома появилась Поля. Едва я открыл дверь и увидел ее, как сразу понял, что это уже не та Поля, которую я знал, не моя сестра, а какая-то взрослая женщина, много претерпевшая на своем веку…
— Пустишь меня переночевать? — спросила она незнакомым голосом.
Мы с Татьяной молча на нее смотрели.
Так же молча смотрела на нее Елена Алексеевна, когда Поля появилась дома после гостиницы. Ее мать спросила: «Что у тебя с лицом?» А Поля ответила: «Что у меня с лицом?» — «Какое-то страшное, старое лицо. Ты плакала?» — «Нет, я смеялась, — ответила Поля, — а ты почему плачешь?» — «Кто тебе сказал, что я плачу? Ерунда! Я никогда не плачу. У меня железные нервы, всем известно. Иди умойся!» — «Сейчас пойду умоюсь, — сказала Поля. — Но прежде послушай. Я никогда не прощу папе, что он тебя бросил… я ему сказала об этом… но я никогда не прощу тебе, что ты ради меня прожила жизнь с Игорем Петровичем, все время представлялась, что любишь его, и меня научила лгать и представляться и называть его папой. Так вот, знай, больше он этого не услышит никогда! А ты продолжай лгать дальше!»
«Нет, все, — устало сказала Елена Алексеевна. — Кончено. Больше лгать не придется. Я ждала, пока вы вырастете… ты и Виктор… и теперь хочу уехать от Игоря Петровича навсегда. Поедешь со мной к бабушке».
Вот что заявила ее мать, и моя сестра стояла как громом пораженная, а визитер Ивакин-старший говорил, наверно, в это время своей Лиле с гневом, горечью и недоумением:
«Как же так, Лиля? Я же люблю их всех! Я же им всем желаю добра! Как же так все неладно получилось?» — пока к вечеру не раздался звонок и он, схватив трубку, не услышал голос Поли:
«Папа, это ты?»
«Я, я! — радостно откликнулся отец. — Наконец-то позвонила! Ну что? Как дела?»
Она молчала, и отец нетерпеливо крикнул:
«Да говори же, Поля! У меня и так сердце вразнос из-за вас! Звонили тебе? Все хорошо, да?»
«Плохо, папа. Очень плохо».
«Как плохо? Почему? Что случилось?»
А Поля ответила:
«Погода в Москве хорошая, папа. Но я в Москву уже не попаду. Ничего не будет, папа, ни сегодня, ни завтра».
Отец застыл с трубкой в руке, осмысливая ее слова, а потом она услышала его крик, какого никогда от него не ожидала:
«Мерзавец! Негодяй! Я убью этого подонка!»
И, как это ни невероятно, Поля рассмеялась в тот момент… и я захохотал, неудержимо хватая ртом воздух, когда она это нам рассказала.
Они обе меня не пускали, Поля и Татьяна, как будто чувствовали, куда я иду. Татьяна молила меня, хватала за руки и Поля удерживала, хотя сама была едва живая. Но я нагло врал: да не Таракан это звонил, не Таракан, к матери я поеду в больницу, к матери! — вырвался на лестничную площадку и для верности закрыл их с той стороны на ключ. Я ничего не соображал, словно очутился в каком-то опрокинутом мире, где все неправдоподобно, как бывает иной раз во сне: знаешь это, а проснуться сил нет. Звонил ведь действительно Таракан, и он сказал, что нашел этих троих; они пьют пиво на веранде в парке. Я не пожалел рубль на такси: с шиком подкатил к воротам парка и, прихрамывая, закандылял самым быстрым шагом по аллее. «У меня сердце вразнос», — сказал отец. У меня тоже сердце стучало вразнос. Я боялся, что они уйдут, вот чего я боялся. А об опасности даже не думал, нет. У меня в глазах было темно. Я шагал, что есть сил, и поспел в самый раз. Они, эти трое, уже допили пиво и спускались с веранды. Идут, курят, гогочут, а следом за ними шагах в десяти Таракан и Филатов, тоже мой однокурсник, спец по самбо. Таракан увидел меня, свистнул и махнул рукой. Я двинулся наперерез этим троим и повстречал их на тропке около скульптурной группы: металлическая косуля щиплет травку, а самец (тоже металлический) стоит рядом, вскинув голову. Я остановился. И они встали.
— Привет! — сказал я, быстро и часто дыша.
Они меня не узнали, ясное дело, удивились очень. Мало ли кого они по ночам встречали, мало ли над кем измывались… всех разве упомнишь!
— Чё это он? — спросил низенький, коренастый.
— В лоб хочет, — предположил второй, высокий, в рубашке с Аллой Пугачевой на груди.
И все трое загоготали, как олигофрены.
Ну, я им напомнил, кто я и где мы встречались. Меня дрожь колотила. Они, наверно, решили, что это от страха. А я в этот момент не о них думал. Я о Таньке думал, о Поле, об отце, о матери в больнице… все разом промелькнуло, и я совсем ослеп от ненависти и кинулся на того низенького, который ударил Таньку.
Это описывать долго, а на деле получается быстро, почти мгновенно. Мы схватились трое на трое. Затем сразу стало тихо. Мы стояли и тяжело дышали — я, Таракан и Филатов. Двое убегали, продираясь сквозь кустарник, а один, самый высокий, тот, что с Аллой Пугачевой на груди, лежал неподвижно на земле.
— Это ты его? — свирепо спросил я Филатова.
Он посмотрел на свои руки, словно не узнавая их, пробормотал:
— Да я ж легонько, приемом… Он башкой об эту козу ударился. (О металлическую косулю то есть).
— Сматываемся! — деятельно сказал Таракан, озираясь.
Кусты закрывали нас от наблюдателей с веранды.
— Сматываемся! Ну! — нетерпеливо повторил Таракан.
— Погоди, — сказал я и наклонился над лежащим. Глаза у него были закрыты. Он побледнел и осунулся, в углу рта выступила кровь. На меня накатил страх.
— В скорую звоните! — крикнул я.
— Ты что, обалдел? Сматываемся! — перепугался Таракан.
— Оклемается он, — неуверенно пробормотал Филатов.
Мы все дышали как после тяжелого, долгого бега в гору. Я понял, что сейчас схвачусь с ними; распрямился и стал подступать к Таракану. Он отскочил. И Филатов невольно отшагнул. Они переглянулись и побежали по тропке к веранде, около которой был телефон-автомат. А у меня ноги вдруг подкосились; я опустился на землю рядом с этим длинным, у которого на губах вспенивалась слюна. Помню, я подложил ему свою куртку под голову, вытер ему лицо своим платком. Кажется, я его мысленно молил: «Ну, вставай же, балда! Вставай!» — но он лишь подергивался и хрипел с закрытыми глазами… пока опять не появились Таракан и Филатов.
— Сейчас приедут. Сматываемся! — опять заверещал Таракан, зациклившись на одном слове. Я не двинулся с места. И дождался: к веранде подкатила «скорая», и опять двое, опять мужчина и женщина (только не те, а другие) зашагали к нам по тропинке. Таракан и Филатов юркнули в кусты. Мужчина-врач склонился над лежащим, быстро прощупал ему пульс, приоткрыл веки — и мне:
— Что произошло?
— Затылком ударился об эту штуку.
— Помоги поднести в машину. Живей!
Мы подхватили его и поволокли. Тут у Филатова заговорила совесть: он выскочил из кустов. (А Таракан, гад, так и не показался!)
— С нами поедете, — сказал врач.
— Нет, не могу! Запомните фамилию — Ивакин. Это я. Учусь в медицинском институте. Ивакин из медицинского, запомните. А ехать не могу.
Милиции не было поблизости, и это нас спасло. Ненадолго, правда.
С тех пор прошло полгода, а я все еще никак не могу опомниться. Мне кажется, я пережил дурной кошмар, какой бывает при высокой температуре, на грани жизни и смерти. А верней, не я был на грани жизни и смерти, а мать. Это она кое-как выкарабкалась, уже побывав там, по ту сторону. («Чудом спасли», — сказали мне в реанимации). Вернулась домой она неузнаваемая: притихшая, с испуганным лицом, словно увидела воочию нечто жуткое, недоступное человеческому взору. Отец уже улетел к тому времени, а мы с Филатовым отсидели пятнадцать суток за драку, хотя, если бы этот малый не оклемался, и сейчас бы, наверно, Татьяна носила мне передачи в тюрьму… Странно, что из института не выгнали, вот что странно — и это, я думаю, отец постарался, похлопотал, а не исключено, что и Любомиров Вадим Павлович.