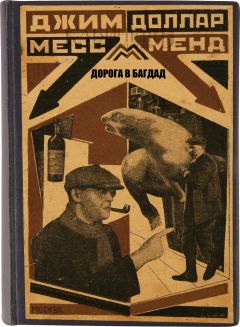— Вставай! В Петербурге революция, Николая убрали.
Потом самые разнообразные люди в Нахичевани-на-Дону поздравляли друг друга, мало понимая, почему они радуются. Потом город убрался, принарядился, школы распустили учеников, городская дума устроила заседание и под портретами государей читались вслух телеграммы об отречении голосами торжественными и полными, словно это было личным удовлетворением каждого из читающих. Начались митинги, и легкость вхождения в революцию все продолжалась. Проступили отдельные Иваны Ивановичи, избираемые в разных местах разными организациями. Иваны Ивановичи вставали рано, не любили почесываться, в уборной газетами не зачитывались, после обеда не спали, — они «кипели в общественном котле». Им всегда было некогда, они поглядывали на часы, рядили извозчиков месячно, держали своих кучеров, как модные доктора, и не было случая, чтоб их не оказалось на заседании. Когда приходил час выборов, они выбирались автоматически, совсем так, как севший в вагон доезжает до станции, а начавший служить дослуживается до чина.
Проступили и Марьи Ивановны. Эти дамы любили вспоминать курсы Герье и Бестужева, когда-то прятали у себя нелегальную литературу, собирали деньги на шлиссельбуржцев, а во время войны шили солдатам фуфайки. Каждая из них где-нибудь председательствовала. Они умели звонить в колокольчик и очень громко кричали: «Тише!» Им досталось целиком женское движение и митинги по женскому вопросу.
Митинг устроить — не шутка. Президиум (четыре дамы с колокольчиками) оповестил: ровно в восемь часов вечера в коммерческом училище. Говорить будут о женском вопросе. И собралось женщин видимо-невидимо, ровно к восьми часам вечера, со всех ростовских и нахичеванских окраин, — женщин в платочках и дырявых сапогах. Шли по снегу, по воде, по лужам, шли с грудными ребятами, кому не на кого было их оставить, шли версты и версты, — пришли, а президиума нет. Колокольчики стоят, но дамы опоздали, а в залу не вместить и одной десятой пришедших. Гул стоит от вопросов. Пришедшие хотят хлеба, не пшеничного, а духовного, по которому голодали года.
Но вот половина президиума приехала в фаэтоне. Толстая дама с фишю[1] на колыхающейся блузе, просвечивающей розовыми лентами бюстодержателя, всплывает на кафедру, машет платочком, кричит громко, хозяйственно, благотворительно: надо перенести митинг на воскресенье двенадцать часов, здесь потолки провалятся, с улицы ломятся толпы, нельзя, никак нельзя…
Духовного хлеба нет, голодные ропщут, им кажется, что над ними смеются. Они пришли со спичечной фабрики, с макаронной, с мыльного завода, с парамоновской мельницы, а оттуда, по грязи и талому снегу, версты и версты…
Вечером говорит утомленная Марья Ивановна Анне Ивановне в чинной столовой, когда спящая на ходу девка несет, роняя вилку на пол, приборы, а из кухни бьет запах подогреваемой бараньей ноги:
— Какая темнота! Сколько ненависти к интеллигенции. Забыто все, что мы отдали, чем пожертвовали! Они готовы избить нас или устроить погром, — вот увидите, начнут с евреев, а кончат интеллигенцией!
Но стадия Ивана Ивановича сменяется стадией Петра Петровича. Иван Иванович стоит в зените. У Ивана Ивановича появился завистник. Почему, скажите, все ему да ему? Почему все его да его? Как будто нет лиц с высшим образованием, с общественным стажем? Снова политический митинг. На эстраде Иван Иванович рядом с Петром Петровичем. В зале — рабочие и солдаты.
— Товарищи! — кричит Петр Петрович. — Обратите внимание, комитет сам себя выбрал! Советую вам воспользоваться своими правами и переизбрать комитет на основах четыреххвостной формулы!
Шум. Иван Иванович, бледнея, вскакивает:
— Товарищи! Зала полна еще несознательных элементов. Среди нас есть провокаторы! Нельзя переизбирать комитет, не имея руководящего списка!..
Шум, свист.
— Он против четыреххвостной формулы! — кричит кто-то, делая ударение на «му». Публика сбита с толку. Веселый человек в пиджаке, прячась за спины рабочих пронзительно вопит:
— Иван Иванович — сука!
Иван Иванович потерял популярность. На эстраде утверждается Петр Петрович. А вечером у Петра Петровича ужин, скорый, на быструю руку, с государственной экономией времени. Два-три единомышленника, их жены, гимназист из комитета учащихся, старший приказчик — в виде демократического элемента… Жуют, стирая с усов капли сладкого соуса, подбирают с тарелки рыхлым куском белого хлеба; гимназист скоблит ножиком. Но Петр Петрович темнеет:
— Где графин? Почему вино в бутылке, а не в итальянском графине?
— Машу я выгнала нынче, — шепчет Анна Ивановна, сжимая отрыжку корсетом и пряча губы в салфетку. — Маша разбила, нахальная стала. Вообрази себе, ходит и спит. Я ей говорю, а она зевает.
— Ах мерзавка! Итальянский графин! — Петр Петрович безутешен, настроение испорчено, графин был привезен из Милана…
Но что же чувствуют Маши, полуспящие от усталости, что чувствуют женщины со спичечной, мыльной, парфюмерной, бумажной фабрик, машинисты и смазчики, шахтеры, солдаты, мусорщики, выгребальщики, те, что тянут вонючую кожу на кожевенной фабрике за городом, те, что моют вонючую шерсть на шерстомойке за городом, те, что тихо скользят по ночам на вонючих бочках в городе? Знают ли их Иван Иванович и Петр Петрович? Знают ли они Ивана Ивановича и Петра Петровича? И что им дала Февральская революция?
Глава вторая
«ПРОБЛЕМА ТРУДА»
Не все интеллигенты подобны вышеописанным. На последней улице города, лицом в степь, стоит деревянный домик, крашенный в голубое с белым. Крыша у него треугольником, окна в одно стекло, во дворе голое тутовое дерево, колодец, куры и мостки через черные лужи, густые, как сапожный клей. Отсюда слышна виолончель, здесь живет Яков Львович, тоже интеллигент, когда-то магистр философии, а сейчас виолончелист городского симфонического оркестра.
Яков Львович не всегда бреется, он высоко поднимает воротник пиджака, а нечаянно взглянув на свои ногти, сконфуженно прячет руку в карман. От Якова Львовича пахнет луком, — так сдабривает ему каждый день водянистую похлебку без мяса мать Якова Львовича Василиса Игнатьевна. Мать — православная, русская, маленькая, в платочке. Самого же Якова Львовича в гимназии ругали жидом, а в университете — дружелюбно — семитом. У него длинный нос, бледные восковые ушные раковины, красноватые веки и в них небольшие робкие глаза, прячущиеся от чужого взгляда, как от удара. Яков Львович вышел в отца, провизора Мовшензона.
Для родного городка Яков Львович — неудачник. Из науки проку не вышло, отцовские деньги проел и пропил, не женился, не выбился в люди, ходит ободранный, сипло смычкастит себе что-то по струнам в дырке городского оркестра и не знается с приличною публикой. Даже и на обед к городскому голове, куда приглашен был весь оркестр за исключением низших ударных, не позвали Якова Львовича.
Для себя самого Яков Львович — счастливец. Не только счастливец — блаженный. У него всегда хорошо на душе, так хорошо, что даже перед людьми ему совестно. Дождик идет, лужи чмокают, ветки вздрагивают, скрапывая капли, — и он, точно дерево, рад дождику, спешит на улицу, лысинкой намокает, губами бормочет — радуется. Сухая пыль столбом стоит, доводя до вычиха дворовую собаку, а он и тут рад, глядит на твердые круги облаков, выпукло стоящие на пыльном небе, и вспоминает Андреа Мантенью.
Яков Львович любит Россию. Он стоял рядовым с ружьем по колено в воде, защищая ее от немца, хотя в сердце его начертана была заповедь «не убий». Он по первому зову большевиков побежал из окопов брататься.
Офицер царской армии, университетский товарищ, сказал ему:
— Ты как семит не можешь понять позорности происходящего. Тебе не больно, когда рушится государственное единство, попирается национальная честь… Сын родины должен чувствовать как хозяин. Будь ты хозяин, ты бы вместо братанья пошел и дал ему прикладом в морду. А ты семит и наемник. Тебе все равно.
— Послушайте, да чей же вы сын? — взволнованно говорил Яков Львович, порываясь объяснить ему. — Ведь это она же, мать ваша, сказала мудрейшие в мире слова, она посылает вас по-братски к брату! Таких слов еще никто в мире не произносил, а вы неразумно затыкаете уши, восстаете на мать. Посмотрите вокруг себя: над лицемерием, ложью, кровью, насилием, предательством — благословение папы, священников, пасторов, журналистов, ученых, и ни один не закричал: «Остановите безумие!» И вот Россия первая говорит, что нужно, — самое простое, самое понятное. А вам стыдно перед кардиналами и дипломатами за ее «необразованность», — вы не сын. Так чувствуют лжесыновья, кретины!
— Так рассуждают жидо-масоны, у них своя дипломатия, знаю! — в бешенстве кричит офицер, вспоминая, что носит погоны.