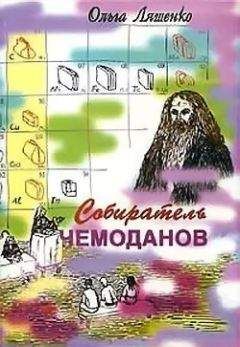Хозяйку звали Варварой Степановной. Узнав это, Таня удивилась и обрадовалась. Это было имя дорогого для нее человека: имя ее матери, погибшей в самом начале войны.
…Забыв про ранний час, Таня сразу же собралась на фабрику, но Варвара Степановна заявила:
— И не думайте, голодную не отпущу, не ссорьтесь лучше со мной и порядок в хозяйстве не нарушайте, с меня этого чудушка довольно, — сказала она в сторону Алексея.
Он, как бы очнувшись от раздумья, встал, шагнул к двери, сдернул с гвоздя кепку.
— Куда же ты, Алешенька? — спросила Варвара Степановна. — Хоть бы разок вместе со всеми позавтракал. Да и Таню заодно на фабрику проводил бы.
— Пойду, мама. Дело у меня, — бросил он на ходу и, толкнув носком сапога дверь, вышел.
— Вот каждый божий день так, — сокрушенно вздыхая, сказала Варвара Степановна и направилась к русской печи. — Вы уж не сердитесь на него, чудной он… но уж зато честный. А с квартирами в поселке в самом деле плоховато, — говорила она, гремя посудой.
Таня хотела помочь Варваре Степановне, но та и слушать не стала:
— Сама, сама управлюсь, не в диковину! Вы лучше в комнаты пройдите, с дедом моим познакомьтесь. Иван Филиппович! — окликнула она мужа. — Выглянул бы на минутку, гостья к нам.
В ответ из задней комнаты, отделенной занавеской, раздался голос Ивана Филипповича:
— Повремени минутку, Варюша, бросить никак нельзя — клей…
— Ну тогда у себя принимай, — сказала Варвара Степановна и подтолкнула Таню вперед. — Проходите, Танечка, не стесняйтесь, он у меня дед общественный.
3
«Общественный дед» сидел за столом спиною к двери и заканчивал какую-то сложную операцию. Таня остановилась у порога. В лицо ей пахнуло чудесным знакомым запахом древесной стружки, нагретого дерева, клея, острым ароматом спиртового лака и еще чем-то приятным и теплым, но чем именно, она не могла разобрать.
Комната, в которую вошла Таня, служила Ивану Филипповичу мастерской. В простенке над столом висел портрет Горького в простой липовой рамке, под ним, в рамке поменьше, — какая-то грамота. На стене слева были развешены скрипки, готовые и разобранные, смычки. В углу стояла этажерка с кусками дерева разных пород, над ней висела полочка с инструментами. Возле стола — шкаф со стеклянными дверцами, через которые виднелись бутылочки и флаконы с лаком. Но самым интересным в комнате был стол Ивана Филипповича со множеством небольших рубанков непривычных форм и тонких, похожих на разные хирургические инструменты, подпилочков. На столе же стоял ящик с набором камертонов, лежали детали скрипок: обечайки, шейки с улиткообразными завитками головок, деки…
Подойдя ближе к столу, Таня залюбовалась руками Ивана Филипповича. Не отрывая глаз от работы, он брал нужный инструмент или деталь. Длинные, узловатые в суставах пальцы его действовали как пальцы хирурга: быстро, без торопливости, без лишних движений.
Закончив работу, Иван Филиппович обернулся — теперь можно было и поздороваться. Он глянул на Таню поверх очков совсем еще молодыми глазами. На щеках шевельнулись морщинки. Густые усы, нависшие над гладко выбритым подбородком, дрогнули.
«Как он похож на Горького!» — подумала Таня.
Мастер встал и протянул руку:
— Присаживайтесь, присаживайтесь, пожалуйста, вот сюда. Будем знакомы: Иван Соловьев, скрипичный мастер. — Он показал на кресло возле стола. — Располагайтесь…
Таня назвала себя и послушно уселась.
— Вы скрипки чините? — спросила она.
— Да нет, я новые инструменты делаю, — с доброй улыбкой ответил он. — С малых лет деревцем балуюсь.
— И на стене это всё вашей работы скрипки?
— Всё, что здесь видите, своими руками делал, — с гордостью ответил Иван Филиппович и добавил задумчиво: — Люблю я это самое, у матушки природы тайны выпытывать, из деревца душу добывать, чтобы пело по-настоящему. А вы, простите, сами-то по какой специальности?
— Я инженер-мебельщик, — ответила Таня, — на мебельную фабрику приехала.
— Так, так. Значит, мы с вами вроде как бы родственники, — засмеялся Иван Филиппович. — Прямо из института или практику уже имели?
— Я на вечернем отделении училась шесть лет, а работала в Москве на фабрике. Начала подсобной работницей, кончила мастером. Теперь сюда направлена.
— Ну что ж, это хорошо, поживите у нас, на Урале. Хороший здесь край. Прежде-то бывали или нет?
— Всю войну в Новогорске жила, совсем недалеко от вас.
— Да, километров тридцать… А тут не бывали?
— Не приходилось. Скажите, большая здесь фабрика?
— Как вам сказать, вообще-то порядочная, да в полсилы пока работает, непорядки у них. Директор новый, месяц назад заступил. Главный инженер — тот давно работает. Теперь, говорят, не ладит с начальством. Токарев, знаете, директор крутоватый, Алешка мой частенько про него рассказывает…
— Я вас, наверно, Иван Филиппович, от дела отрываю своими расспросами? — вдруг забеспокоилась Таня. — Так вы не обращайте на меня внимание.
— Ну от дела-то меня ничем не оторвать. Я могу и говорить, и работать. А сейчас как раз передышка полагается. В пятом часу сегодня поднялся. А почему, думаете? Бессонница? Ничего подобного! Спать могу по двенадцати часов на одном боку. Времени мало, вот что!
Иван Филиппович запустил пальцы в свою густую белую шевелюру:
— Видите? Солома над чердаком начисто повыгорела, а сделано сущие пустяки! Вот и поторапливаюсь.
— А я время у вас отнимаю, — виновато проговорила Таня, поднимаясь.
— Сидите, сидите! Я ведь совсем не в том смысле сказал.
Иван Филиппович усадил Таню и снова склонился над столом. Укрепил в зажимах нижнюю деку скрипки, выбрал циклю и начал снимать с внутренней стороны деки тончайшую, похожую на шелк, стружечку. Таня долго и внимательно наблюдала.
Наконец Иван Филиппович промерил толщину деки в нескольких местах каким-то особенным кронциркулем, улыбнулся.
— Вы замечали, наверно, — сказал он, снимая очки и зажимая их в руке, — частенько в пути бывает: сперва идешь — все хорошо: и дорога не трудная, и расстояния вроде бы не замечаешь, и поклажа спину не давит. Но вот дорога к концу пошла, с километр, а то и меньше остается, и этакое нетерпение вдруг: «Когда ж дойду?» Дойти бы поскорей, а тут на беду и шажки помельче, и поклажа спину мозолит. Думается, чуть поднажми — и дома! Вот уж и крылечко показалось, а тебе всё еще дальше далекого кажется… И у меня так: почти разгадал секреты звучания скрипки, почти дошел, — крылечко видать, а еще не дома. Считанные метры остались, а дела сколько? Открыть до конца надо, людям передать успеть, чтобы после меня сумели распорядиться.
Он нацепил очки, еще раз промерил деку и, как будто не доверяя кронциркулю, прощупал ее пальцами. Потом склонился ухом к вычищенной поверхности и провел по ней кончиками пальцев, прислушиваясь к чему-то.
Солнечный луч ударил в окно, осветил волосы и лоб старого мастера. В луче засуетились золотые пылинки, а Тане показалось, что это из глаз его брызнула струйка света, тоже золотая…
— Вы, наверно, очень любите свое дело, Иван Филиппович, — тихо сказала она.
— Очень! А вы? Разве не любите свое дело?..
— Конечно, люблю.
— Ну вот. И с профессией, должно быть, по любви сошлись, так ведь?
— По любви! — убежденно ответила Таня. — Только трудной была эта любовь. — Она закрыла глаза, как будто заглядывала внутрь себя.
— А это, знаете, хорошо, когда любовь трудная, — сказал Иван Филиппович, выбирая на столе новую циклю, — у всего трудного корни глубже сидят. Для того и человек живет на земле, что трудного кругом полным-полно, а разобраться, кроме него, некому.
Он продолжал выскабливать деку, то промеряя ее, то прощупывая пальцами. От легких, почти прозрачных стружек исходил тончайший аромат.
Наконец дека была готова. Иван Филиппович освободил ее, отложил инструмент и откинулся на спинку стула.
— Люблю деревце, без меры люблю, — задумчиво проговорил он. — Музыку люблю… Над иной скрипкой, бывает, год сидишь, а думаете, жалко времени? Ничуть! Лишь бы в эту скрипку душа вместилась. Вся, целиком!
Он взял теперь верхнюю деку и начал укреплять ее, продолжая разговор:
— Вот взять вашу профессию, она тоже сродни искусству. Знаете, какие у нас в Северной горе мебельные мастера прежде были! Кое-кто и сейчас на фабрике работает. Позже познакомитесь, порасскажут вам… Только нынешней мебелью да и вами, мебельщиками, я, признаться, недоволен. Ну скажите, почему, если мебели требуется много, ее надо плохо делать? Недавно я у Алексея, у сына, на фабрике был, смотрел мебель. Не признаю я такую стряпню, не признаю!
В голосе Ивана Филипповича послышались гневные нотки:
— И в чем дело, не пойму! Всё, думается, есть: люди, материал, техника! Тут от вас, от специалистов, многое требуется, понять вам надо, для чего вы есть! В том, наверно, и беда, что вы себя только техническими руководителями считаете, а должны быть и художественными еще, вдохновителями красоты должны быть! Да, да!