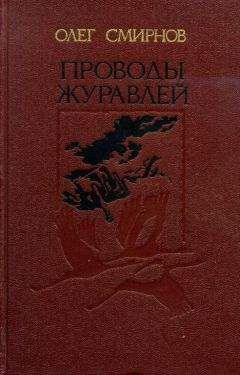Стараясь не хлюпать грязью, приникая к стенке хода сообщения, Воронков решительно двинулся к странной фигуре — палец на спусковом крючке. На всякий случай. Сейчас разберемся.
Какая тут звуковая маскировка — грязь чмокала взасос, муторно, шаги Воронкова услышались, и фигура высоким, звенящим голосом, в котором угадывался испуг, спросила на чистейшем русском:
— Кто там?
Этот испуг успокоил и развеселил Воронкова. Так спрашивать — кто там? — можно, заслышав деликатный стук в дверь твоей комнаты. Он не отозвался, погреб дальше. Еще больший испуг:
— Кто там? Я спрашиваю: кто там?
И внезапно Воронков понял: не подросток это, а девка! А коль девка, то санинструкторша! Так сказать, его подчиненная, первая ласточка прибывающего пополнения. «Пой, ласточка, пой! Сердце успокой…» Но чего не спит, колобродит, задает дурацкие вопросы — дело другое. Воронков продолжал топать — в ответ на уже паническое:
— Кто там? Кто вы? Вас же спрашивают…
— А ты кто? — гаркнул Воронков. — Не знаешь, как положено на передовой? Пароль-отзыв не для тебя? Где тебя только учили?
— Извините, — робко сказала деваха. — Я забыла пароль и отзыв…
— Забыла? — грозно вопросил Воронков.
— Да… С перепугу… Я думала: немец!
Воронков подошел ближе, разглядел поосновательней: факт — деваха… Худа, тонколица, стрижка короткая — пигалица, словом. И, как надлежит пигалице, глаза у нее большие и, натурально, пугливые. Во мраке блеснули зубы — пытается улыбаться, что ли? Да тут скорей стучать зубами — с переляку. А сапоги на пигалице — не меньше сорок третьего размера, шинель на ба-альшой вырост! Не будь я джентльменом, сказал себе Воронков, я бы назвал ее чучелом. Действительно, несуразная, нелепая какая-то. Возможно, я ошибаюсь, в темноте не разберешь толком. Но наряд явно не по ней. А впрочем, почему не по ней? Где шить да тачать по ее школьным размерам? По ее детским формам?
Воронков подошел к девахе настолько близко, что она попятилась. И опять — он бы мог поклясться в этом — все в ней напружинилось испугом:
— Не бойтесь, — с подчеркнутой вежливостью переходя на «вы», сказал Воронков. — Я не фриц, я чистокровный русак.
— Я и русских иногда боюсь, — почти шепотом произнесла санинструкторша.
— Русских? Почему? — Воронков искренне удивился.
— Да так… Есть причины…
— Что за причины?
— Потом как-нибудь… Простите, вы кто? Знаков различия не разберешь…
— Лейтенант Воронков. Командир стрелковой роты.
— Ну надо же! Мой командир! — Слова вроде бы радостные, а тон по-прежнему напуганный.
— А вы новый санинструктор?
— Да, товарищ лейтенант…
— Ну, давайте знакомиться.
— Давайте…
— Ну! — Он протянул руку, хотя знал, что первой это должна сделать дама, — но нарушил этикет, джентльмен, поскольку девица руки держала за спиной. Пожал ее холодные хрусткие пальцы. — А зовут-то вас как?
— Старший сержант Лядова.
— А имя?
— Светлана.
— Света, значит.
— Света, Света, — повторила она, и в этой повторяемости ему почудилась покорность, даже обреченность. Что за загадка? Чему она покорна, на что обречена? Или, напротив, не покорна и не обречена, готова с чем-то и за что-то бороться? Одно ясно: диковатая, или, как говорят солдаты, с приветом? Может, и без привета, но боится и дичится — факт. Да своего ротного, видимо, не исключает, хотя всем доподлинно известно, что он джентльмен, пускай и не английских лордов помет. Ладно, со старшим сержантом медицинской службы мы еще разберемся. А пока погутарим о деле…
Называя ее то «старшим сержантом», то «товарищем Лядовой», то «Светой», то «санинструктором», Воронков расспросил, откуда она сюда попала, что заканчивала, воевала ли прежде, как нашла роту, что намерена предпринять в ближайшее время, какая помощь требуется от ротного. Небрежно, вполуха, слушал он, что ему говорили: направлена из запасной части, окончила трехмесячные курсы, еще не воевала, в роте обнаружена вшивость, фурункулез, фурункулезных больных надо облучать солнцем, регулярно будет проводиться утренний медосмотр, товарищ лейтенант должен лично показать пример.
— Покажу, — сказал Воронков, подумав: вместо б этой девочки-школьницы да матерого мужика, поварившегося в боях, — вот это был бы ротный санинструктор.
И еще он подумал: жаль этих девчонок, этих школьниц, этих пигалиц — им бы еще под маминым присмотром невеститься, да не промахнуться бы, чтоб верный и непьющий попался, а тут вот ее на передний край приволокли. Стой тут с ней и ощущай, что из всех чувств, которые может вызвать к себе деваха, главные — боль и сострадание. Эх ты, чучело, про пароль-отзыв с переляку забыла. Ах ты, девчоночка в сапогах сорок третьего размера…
— Вы почему не спите, Лядова? — спросил вдруг Воронков, будто сам только что проснулся.
Лядова передернула плечами, запахнулась в шинель. Помолчав и запинаясь, ответила:
— Так я ж вам говорила, товарищ лейтенант… Боюсь немцев, они ж близко. Нагрянет разведка, а у меня и гранаты нет…
— Ну, это поправимо, с гранатой-то. — Воронкову показалось, что он усмехнулся. — А вообще фашистов опасаться надо. Но ничего, получим подкрепление, плотность обороны возрастет… А спать все равно надо…
Лядова резко выпрямилась, шинель едва не свалилась с ее плеч. Тем же резким движением она запахнулась поплотнее, утопив подбородок. Оттуда, из-под воротника, донеслось невнятное:
— Опасаюсь… оставаться одна… в землянке… Непрошеные… ухажеры пожалуют…
— Что? — не понял Воронков. — Какие ухажеры?
— Такие. Которые не дают проходу. И готовы на все…
— На все?
— Да. И я их очень боюсь…
— Глупости!
— Не глупости, товарищ лейтенант…
— А я говорю: ерунда и глупости! Чтоб у меня в роте подобное? Никогда! Слышите, Лядова: никогда! Слышите?
— Слышу…
Дурацкая, в общем-то, картина: усталый, умученный, с ноющей, с постреливающей ногой, рассупониться бы, прилечь бы, вздремнуть бы, вместо этого стоит и разводит беседы со Светочкой Лядовой. И сколько еще так вот будет стоять и собеседовать? Хоть бы догадалась пригласить его в землянку, присесть, передохнуть.
Утренняя заря между тем переливалась через лес, пласталась к земле, высветляя мир божий. Мда, мир божий: норы окопов, провалы траншей и ходов сообщения, бомбовые и снарядные воронки, обезглавленные деревья, сгоревший сухостой, посеченный кустарник. И юная женщина — в шинели и кирзачах. Не божий — дьявольский мир. Проще — война…
При свете зари лицо санинструкторши менялось, становилось совсем-совсем молодым, чистым и красивым. И милым, симпатичным, добрым и еще черт знает каким. Мировая девчонка! Но тем не менее — кончай свидание, ротный.
— Света, — сказал Воронков. — Хочу пару часов поспать. А днем загляну к вам, что-то беспокоит голень…
— Поэтому и хромаете?
— Да. Открылась рана, что ли…
— Надо осмотреть, товарищ лейтенант! И лучше бы не откладывать…
— Не откладывать?
— Осмотрю сейчас. Перевязку сделаю. У меня все под рукой…
— Согласен, — сказал Воронков. — Ведите в свой госпиталь…
Он шутил, так сказать, вдвойне: какой там госпиталь, а во-вторых, эта занюханная землянка не ее, а его. Апартаменты командира роты. Она заняла их, правда, не спросясь хозяина. Ну, бог с ней, пусть живет-обживается. Воронкову и в другой землянке нехудо. А бабе, то есть женщине, то есть девахе, конечно же, потребна отдельная землянка. Не может же она обитать среди мужиков.
Санинструктор Лядова в свой лазарет, однако, повела не сразу. Переминалась, покашливала, куталась в шинельку, искоса поглядывая на Воронкова. Наконец, словно окончательно решилась на что-то, шагнула к входу в землянку:
— Пошли, товарищ лейтенант!
— Вы как в омут прыгаете. — Воронков произнес это полушутливо, но санинструктор Лядова ответила вполне серьезно:
— Надеюсь, выплыву.
И скривила свою симпатичную рожицу. Как будто отведала чего-то горького. Хины, например. Или горчицы. Или перцу. Все-таки странноватая девица. Не с приветом, не психованная, но какой-то бзик есть. Приглашает в землянку и мандражирует, трусит. Чего трусить? Странная, странная.
В землянке горел фитиль в сплющенной гильзе, на стенах тотчас завихлялись, заломались их тени. «Свеча не угаснет… Свеча не угаснет…» — ну да, есть песня, грузинская скорей всего, Воронков раз в жизни слыхал ее, но запомнил, а пел в гостях у них папин сослуживец, рослый костлявый военный с усами. Наверное, хорошая песня, коль мотив не забылся и слова какие-то не забылись. И правильно: пусть наша свеча не угаснет и горит долго-долго!
Воронков через голову снял автомат, повесил ремнем на гвоздь в стояке, снял пилотку, примял пятерней вихор на макушке, присел на табуретку. Света Лядова зачем-то кивнула ему, наклонилась над санитарной сумкой. Лейтенант огляделся: в низенькое оконце скребся ранний рассвет, обволакивая и пригашая своим светом свет гильзы. С потолка капало, стены сочились, сопревшее сено на нарах пахло гнилостно, меж сапог у Воронкова в луже шмыгнула черная жирная крыса.