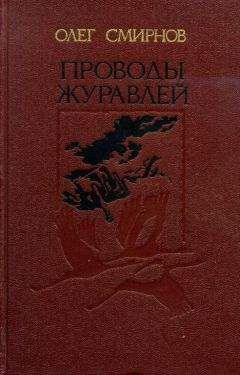Воронков через голову снял автомат, повесил ремнем на гвоздь в стояке, снял пилотку, примял пятерней вихор на макушке, присел на табуретку. Света Лядова зачем-то кивнула ему, наклонилась над санитарной сумкой. Лейтенант огляделся: в низенькое оконце скребся ранний рассвет, обволакивая и пригашая своим светом свет гильзы. С потолка капало, стены сочились, сопревшее сено на нарах пахло гнилостно, меж сапог у Воронкова в луже шмыгнула черная жирная крыса.
«Неуютно здесь жить одной, — подумал Воронков. — Прислали б в другую роту санинструкторшу, поселились бы вдвоем…»
Света плюхнула сумку рядом, на нары, села и, помешкав, сказала:
— Показывайте рану…
— Есть показывать рану, товарищ старший сержант медицинской службы! — Длинная эта фраза долженствовала свидетельствовать о шутливости ротного, а свидетельствовала, как он тут же понял, о вымученности, о тщетных и неуместных потугах недалекого ума.
Он принялся стягивать сапог, упираясь носком в задник, пыхтя и сопя. И не закрывая рта:
— Светочка, предупреждаю: запашок известно какой, солдатские ножки… Не французские духи!
Продолжал, стало быть, шутить, казаться, стало быть, остроумным. Плоско, глупо, конечно. И не зря санинструкторша Лядова суховато сказала:
— Солдатский запашок мне знаком. Медицина ко всему привычна…
— Это точно, — несколько растерянно сказал Воронков и одолел наконец кирзач. Размотал портянку, задрал шаровары. Ну, шибануло, конечно, не французскими духами. И даже не «Красной Москвой».
Конфузясь потной вони и от конфуза становясь говорливей и развязней, Воронков ткнул пальцем:
— Вот-с проклятое наследие немецкого осколка… Любуйтесь!
— Любоваться нечем, товарищ лейтенант. — Света наклонилась близко к голени, ощупала ткани вокруг раны: — Болит?
— М-м! Не очень…
— Не притворяйтесь! Опухоль, краснота, выделения. Воспалительный процесс… Обработаю, наложу повязку с мазью Вишневского. Каждый день будете ходить ко мне на перевязку. Не станет лучше, направлю в санроту…
— Ох, и строгая вы!
— Строгая! — Лядова неожиданно выпрямилась, и лицо ее сделалось жестким, суровым. — И не люблю разгильдяев, краснобаев и хамов!
— Я их тоже не жалую, — пробормотал Воронков.
— Вот и договорились… А теперь немножко потерпите!
Она сняла пинцетом корочку отмершей кожи, обтерла ваткой со спиртом, приложила к ранке тампон с мазью Вишневского, перебинтовала. Пока проделывала свои манипуляции, ногу Воронкова держала у себя на коленях, и он почувствовал, как она напряжена, насторожена, словно опасается внезапной щекотки или чего-нибудь подобного. Чудачка, право! Но у него хватило ума не вылезать с очередной дурашливой шуткой.
— Все, товарищ лейтенант. Вели себя геройски…
— Спасибо большое. А герой я — с рождения…
— Постарайтесь лишний раз ногу не натруждать.
— Лишний раз? Постараюсь, — сказал Воронков и подумал, что пальцы у нее сильные, ловкие и ласковые, как у некой Оксаны, была такая на его, как говорится, жизненном пути. А была на его жизненном пути еще одна встреча, случайная, пустяковая, ничего не значащая, а вот поди ж — запомнилась.
В эвакогоспитале не задержишься, но и за краткостью пребывания свело его с медсестрой, — Ирина по имени, пе-пе-же, то есть походно-полевая жена, по положению, стервозная дамочка по характеру. Жила она аж с замкомдива по тылу, и, разумеется, с ней эвакогоспиталь носился. Кроме раненых, которым плевать что на замкомдива по тылу, что на его пе-пе-же. Вообще стерва была отменная, но что особенно оскорбляло раненых фронтовиков: совала им градусники или делала уколы, ухитряясь прикрываться батистовым надушенным платочком. Брезговала солдатским духом, курва! И раненые шугали ее — кто матом, кто костылем, даже джентльмен Воронков однажды не выдержал, заорал: «Ирка, катись отсюда!» Ирина в слезы, жалобы высокопоставленному тыловику, тот брал в оборот начальника эвакогоспиталя, пожилого, седенького майора, который за глаза и сам называл ее сукой…
А вот Света Лядова не прикрывалась батистовым надушенным платочком. Да так и должно быть. Нормально. У нее, наверно, и платочка такого нету. И потому Воронков, уже не конфузясь сопревшей ступни и провонявшей потищем портянки, неспешно, с толком, с достоинством обулся. Постучал сапогом об пол: порядок!
Вскинул глаза на санинструкторшу и увидел: она улыбается, на щеках ямочки, гляди-ка.
— Что вы, Света? — спросил Воронков, заинтересованный.
— Да так, вспомнилось… Когда вы снимали автомат с шеи, через голову, я вспомнила… по ассоциации, вероятно…
— Что вспомнили?
— Да так, пустяковина, в общем… У меня, знаете ли, папа занимал пост. В горисполкоме. Ну, как все ответработники, носил френч… А тут — делегация французских профсоюзов, отца обязали выступить. И — надеть галстук! Отец галстуков сроду не носил, просто не терпел… Но что поделаешь! Нашли ему пиджак, белую сорочку, повязали галстук. Выступил честь по чести, а сходя с трибуны, снял галстук. На глазах у зала. Прямо через голову! Как вы автомат…
— Я его и надену через голову, — сказал Воронков. — Но каюсь: тоже ни разу в жизни не надел галстука. Кроме пионерского…
— Пионерский и я поносила… Да.. А папа погиб в сорок первом. В ополчении. Под Москвой, — сказала Света и умолкла.
Воронков хотел сказать, что и его отец погиб, и мать погибла, и брат и Оксана тоже погибли, но ничего не сказал. Да мало ли кто у кого погиб за эти бесконечные два года? И сколько еще длиться бесконечности войны? Она ж когда-то должна кончиться, эта б е с к о н е ч н о с т ь…
Тяжкая усталость вдруг навалилась на плечи. Не хотелось вставать с расхлябанной табуретки и покидать сырую, затхлую землянку, чей смрад был побежден вонью его портяночного хозяйства. Запашок был что надо. Кстати, нехудо бы баню организовать и вошебойку попросить в полку. Тем паче санинструктор Лядова вшивость засекла. Летом? Эти насекомые одолевали зимой, но теперь и по теплу завелись. Истреблять их нужно, как фашистов!
Надлежало уходить, но он не уходил. Надлежало говорить, но он не говорил. Молча смотрел на нее. И она молча смотрела на него. Как будто пыталась угадать его мысли. Хорошо, что не могла угадать. Потому что, глядя на нее, он думал о другой женщине, об Оксане из-под Белой Церкви, о медицинской сестре, з а л е ч и в ш е й его. В том смысле, что он не сможет больше никого полюбить. По крайней мере так, как Оксану Доленко. Вот и на Свету Лядову он смотрит по-доброму, как брат. Или как отец-командир. Славная девчонка, однако у него к ней нет ничего. И не будет…
Квадратик окна светил почти по-дневному, фитиль стал чахнуть, коптить. Напряженная, будто натянутая, Света Лядова поднялась с нар, гибко вытянувшись, задула огонек. Фитиль подымил, почадил и угас. Но наша свеча не угаснет, подумал Воронков, несправедливо будет, если жизнь таких молодых, как Света Лядова, или он, Воронков, подрубится смертью. Хотя рано или поздно жизнь кончается смертью — это неотменимо, это закон. Но одно дело — рано, другое дело — поздно. Не будем же торопиться на тот свет, Светочка? И не сердись на невольный каламбур, это я не специально…
Преодолев усталость, он встал, снял с гвоздя автомат, закинул за спину, сказал хмуро:
— Считайте, галстук я опять надел.
И она ответила хмуро:
— Считаю… Но также считаю: мы договорились об утренних осмотрах на вшивость и прочее. И чтоб народ загорал, желательно между завтраком и обедом…
— Осматривайте индивидуально, роту же не построишь… И загорать будут по мере возможности… Я распоряжусь!
— И еще об одном распорядитесь… или какое иное слово употребить… Чтоб никто в роте не приставал ко мне! Вам ясно, товарищ лейтенант?
— Кажется, ясно, товарищ Лядова. Хлопцев предупрежу. А если что, обращайтесь ко мне, я дам по рукам…
— Ладно, договорились…
От землянки до землянки Воронков еле доковылял — боль в голени поутихла, а вот усталость неимоверная, черт знает с чего. Разговор с Лядовой его утомил, точно. Света с бзиком, это понятно. Помешана на пристающих мужчинах. Уверена, что кинутся к ней толпой. Или каждый второй, по крайней мере. Лейтенанта Воронкова, во всяком случае, среди этих вторых не будет. А если всерьез: девицу он в обиду не даст. Есть которые сами ищут мужиков — вольному воля. А есть, которые себя блюдут — это тоже их воля, и нарушать ее в своей роте он никому не позволит. Будь, Светочка, спокойна, лейтенант Воронков слов на ветер не бросает!
Увы, бросает. И еще как! Сколько давал себе слово, обещал, клялся, что хоть один наступательный бой сложится для него удачным, победным. И что же? Невезучий, неумелый: немецкая оборона не прорвана, высота не взята, а лейтенант Воронков — на носилках санитаров. Или так: немецкая оборона прорвана, высота взята, но без лейтенанта Воронкова: он на тех же носилках. И это еще наилучший вариант: хоть и без него, да победа.