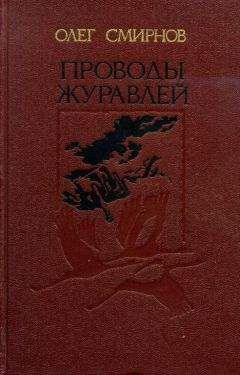Увы, бросает. И еще как! Сколько давал себе слово, обещал, клялся, что хоть один наступательный бой сложится для него удачным, победным. И что же? Невезучий, неумелый: немецкая оборона не прорвана, высота не взята, а лейтенант Воронков — на носилках санитаров. Или так: немецкая оборона прорвана, высота взята, но без лейтенанта Воронкова: он на тех же носилках. И это еще наилучший вариант: хоть и без него, да победа.
Конечно, проклятый род войск — пехота. Все бьют по ней: орудия, пулеметы, минометы, танки, самоходки, самолеты, а она, серошинельная, посреди поля как голенькая. И вперед, вперед в бога-душу-мать — по минам, через колючую проволоку, на доты и дзоты, на горячий свинец, который обожжет — вусмерть.
Другим родам войск воюется, если уж не легче, то успешнее — факт! Сколь раз видел, как тридцатьчетверки неудержимо рвались на запад. Правда, иногда и горели неплохо, но все равно — вперед, к победе!
А артиллеристы, а минометчики, особенно гвардейские? Да вот хотя бы два боя, свидетелем и участником которых был лейтенант Воронков. В первом бою батальон вышел к ручью, — мост взорван, шоссе густо заминировано, не сунешься. Путь один — по полузамерзшим болотам, проходы в которых тоже не без минных сюрпризов. Решение: переть по болотам, к двум березовым рощицам, где и засели немцы. Сперва поперли очертя голову на эти рощи — получили по зубам, отошли, зализывая раны. Батальону было приказано повторять атаки, пока не возьмет рощи. Или пока не истечет кровью?
Но есть все-таки на свете бог, бог войны — артиллерия. Перед третьей либо четвертой атакой батальону была придана батарея тяжелых гаубиц. О, только военный человек оценят, что это такое, когда стрелковому батальону придают батарею тяжелых гаубиц! Тут и слов не найдешь.
До противника было метров четыреста — укутанное снегом, изрезанное буераками поле. На опушках рощ — разведка доложила — доты и дзоты, соединенные глубокими ходами сообщения, подземные убежища, перекрытые накатом в шесть бревен. Запросто не выкуришь! Но задымившая метель была на руку артиллеристам: они отрыли окопы, ниши для снарядов, полный боекомплект. А гаубицы, выкрашенные в белый маскировочный цвет, выдвинули на прямую наводку. И, едва метель подутихла, артиллеристы врезали! Первыми же снарядами выкосило березы, разворотило опушку, и затем мощный снаряд за снарядом легли на огневые точки врага. Немцы укрылись в соседней роще, но гаубицы вырубили и ее — вместе с немецкими пушками и пулеметами.
Батальон ворвался в эти рощи, развивая успех, двинул на деревню. Пороху хватило ненадолго: деревня была превращена в опорный пункт, и пехотинцы залегли в снегу. Да разве проскочишь с налету три ряда каменных надолбов, семь рядов колючей проволоки, и опять — доты и дзоты. Гаубицы стали гвоздить по деревне, и батальон, прижимаясь к огневому валу, пошел в атаку. Опорный пункт взяли, хоть и немалой кровью, черт бы его побрал! Но поступил приказ (черт бы и его побрал): продвигаться, преодолевать реку. Ширина ее невелика — метров сорок, но подступы к ней открыты и пристреляны, опутаны проволочными заграждениями, клубки колючки даже на льду реки, там и сям каменные надолбы и мины, мины, мины. Что сделала бы пехота без артиллерии? Ничего. Но гаубицы своим могучим огнем расчистили ей путь. Преодолела пехота и реку и уже на том берегу узнала: ранен командир батареи, лейтенант-орел…
А вот второй бой. Правда, не наступление — оборона. Но дело жаркое! По соседству со стрелковым полком размещался дивизион «катюш» — как раз по обеим сторонам шоссе. Военные люди говорят: оседлали шоссе. Утром из-за перелеска, выстраиваясь в боевую линию, выползли танки и самоходки — немцы. Сколько же их? Из наших окопов видно: двадцать пять. И автоматчики за ними, человек двести пятьдесят.
Будут таранить нашу оборону? В каком месте? Ломаная линия танков и самоходок, извиваясь, исчезая в травянистых лощинах, взбираясь на ромашковые пригорки, подползла к нашему переднему краю. Пехота действительно, как на богов, смотрела на реактивных минометчиков. А у тех все было отлажено, и они никак не выдавали своего нервного напряжения. Еще вчера пристреляли ориентиры. Установки для стрельбы по ним, как потом просветили сермяжную пехоту, были записаны у каждого командира расчета.
Чехлы сдернуты с наклонных установок, на рельсах хвостатые мины. Центр танковой группы у пристрелянного ориентира — разбитого, полусгоревшего ветряка. И командир дивизиона, бравый капитан с «иконостасом» на груди, зычно скомандовал в телефонную трубку, с НП командира стрелкового полка:
— Дивизионом! Цель номер пять! Огонь!
Заскрежетало, пусковые установки окутались дымом, огненные стрелы впились в небо, о, залп «катюш»! Над танками и самоходками взметнулись клубы взрывов. Когда дым рассеялся, из окопов увидали: автоматчиков сплошь побило, там и тут чернели горевшие машины. Уцелевшие танки двигались дальше. И снова залп «катюш», и снова. Ни одна фашистская машина не уцелела — вот что значит гвардейский миномет! Сермяжную пехоту также впоследствии просветили: залп дивизиона «катюш» — это сто двадцать восемь снарядов калибра 132 миллиметра. Море огня. После него как выжженная пустыня. Фрицы «катюш» боятся панически. Небось забоишься…
Воронков валялся на нарах, по привычке подложив руки под голову, разглядывал щелястый потолок и размышлял о превратностях пехотной житухи. Ну хорошо, что тогда стоял рядом дивизион «катюш». А не будь этого прикрытия, что учинили бы немецкие танки и самоходки? Правда, и сермяжная (она же краснозвездная) пехота не лыком шита, но все же… Все же крупно повезло некоторым военным, Сане Воронкову, например. Начни танки мясорубку, и хоть не наступление, хоть оборона, Саня Воронков вполне мог бы притянуть к себе какой-никакой осколочек. Он прямо-таки словно магнит для этих чертовых осколков. А так — обошлось.
Вот с голенью не обошлось. Надо было долечить в госпитале, не рваться допрежь времени на передовую, передовая от него никуда не уйдет. Рана нагноилась, но спасибо ротному санинструктору старшему сержанту медицинской службы Светлане Лядовой — подлечит. Сейчас уже заметно полегчало, боль не так постреливает. Молодец, Светочка!
Он пришел от нее и вместо того, чтобы залечь на боковую да всхрапнуть молодецким, умылся по пояс, побрился, подшил свежий подворотничок. Потом разулся, разделся и от нечего делать начал думать о том о сем. До завтрака было еще порядочно, спать расхотелось, и он стал вспоминать Оксану — зримо, во всех подробностях. Казалось, от времени ее черты должны были потускнеть, но этого не произошло. А вот только что, придя от Светы, он не мог в деталях, в мелочах воссоздать ее облик. В памяти осталось нечто общее — симпатичная, добрая, милая, даже красивая. И какая-то настороженная, колючая. Но хорошо, что в его роте прибавился, если так можно выразиться, еще один активный штык. Чем больше будет в роте штыков, тем реже и слабее станут приступы одиночества. Воистину так!
Гляди, как взбодрился. И умученность прошла, и настроение не столь уж аховое. Жизнь продолжается, лейтенант Воронков, и жить надо. Многое у тебя позади, но есть еще кое-что и впереди. Не загадывай далеко, не искушай судьбу, сутки прожиты — и порядок. И живи, коль живой.
Он с хрустом потянулся и ощутил, как неслабо, как нерастраченно тело, хотя и дырявили его чрезмерно. Сжал кулаки, повел плечами, пробуя брюшной пресс, глубоко вдохнул и выдохнул. Нет, что ни говори, он молод и, в общем-то, здоров. И робкая, смущенная радость от сознания своей молодости и здоровья обдала его словно теплой волной. Ему стало жарко. Он растелешился до трусиков и лежа начал делать зарядку — так, чтобы не обеспокоить голень. Увлекся, сопел, кряхтел. Давненько он не занимался зарядкой. Считай, как попал на фронт, так и бросил вдохи-выдохи. В госпиталях тем более не до зарядки. Лечебная физкультура — да, была, и то из-под палки: в госпиталях охота была о т л е ж а т ь с я.
Он сопел, кряхтел, а младший сержант Белоус и красноармеец Гурьев молодечески всхрапывали рядышком. Лейтенант и подчиненные как будто не мешали друг другу. Но вот Воронков чутким ухом засек: храп загасает. Он покосился на соседей: ближний, Дмитро Белоус, поблескивал карими глазками в хитром хохлацком прищуре, Гурьев тоже пялился не без удивления и оживления.
— Добрий ранок! — пропел Белоус, растягивая рот до ушей.
— Доброе утречко, товарищ лейтенант! — подхватил сообразивший, что к чему, Гурьев.
— Доброе, доброе. — Воронков смущенно крякнул. — Вот зарядку справляю…
— Мы и бачим! — опять запел Белоус. — Верно, я не враз смикитил… Сперва трохи испугался: чего это, думаю, с лейтенантом? Не с контузии ли… Я лично по утрам нужду справляю…
— Будет тебе, Дмитро, — встрял Гурьев: посчитал, видимо, что Белоус перехватывает с шуточками по адресу лейтенанта. Офицеры не любят, чтоб подчиненные над ними подшучивали. И Воронков не любит. Но иногда позволяет. Под настроение.