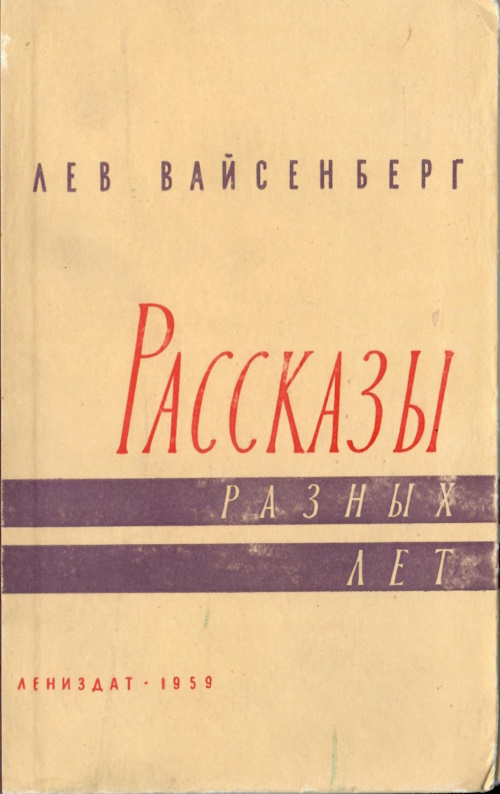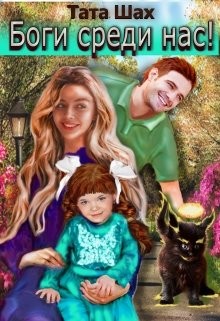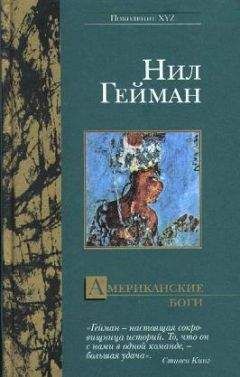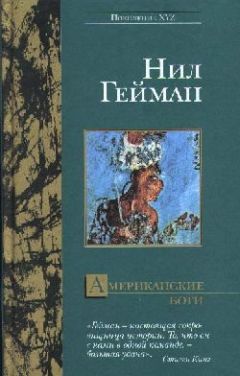к этим людям раньше, когда была здорова и сильна и голос ее был звонок.
Зато Хабиб вдоволь говорил о своей молодой жене. Скрипучим шепотом рассказывал он соседям, что Саяра с детства была не в своем уме, что Гаджи Гусейн хитростью заманил его и женил. Он рассказывал, что Саяра была непослушной, вздорной и неумелой в домашней работе и вот по неопытности подожгла себя, хотя Шейда столько раз предупреждала невестку быть осторожней с огнем. Он рассказывал, казалось ему, убедительно, но слушавшие недоверчиво покачивали головами.
Когда Хабиба вызвали к следователю, он до смерти перепугался. Он изворачивался, клялся в своей невиновности, распинался в любви к жене. При этом усики у него дрожали, как у пойманной мыши.
А старуха Шейда целыми днями сидела теперь у стены, покачиваясь из стороны в сторону, как при зубной боли, и слёзы лились из ее гноившихся глаз.
Немалый переполох был и в доме Гаджи Гусейна. Тетка Зарли жалобно плакала, громко причитала Туту. Далее холодная насмешливая Биби-Ханум — желая сказать, что Саяра и Хабиб не пара, — грустно заметила:
— В одной избе двух воздухов не бывает.
Только один Гаджи Гусейн не чувствовал жалости. Напротив, он был зол на сумасбродных своих дочерей: уже вторая гибнет в огне, вместо того чтоб услаждать седины его — покорно работать и рожать ему внуков. Гаджи Гусейн был убежден, что во всех бедах виновна эта горючая чертова жидкость: она оторвала его брата Зейнала от дома и сада отца; она умертвила его дочь Пикя и лишила его немалой прибыли; и вот теперь она хочет отнять у него вторую дочь Саяру. Гаджи Гусейн еще злей ненавидел упрямые башни, выраставшие в окрестных песках и буйной ватагой наступавшие на тихий берег его отцов.
Он был удивлен, когда его вызвали к следователю и повели через селение с милиционером, точно базарного вора.
И еще больше был удивлен он, когда в большом доме, где жил некогда богач Ага Баба, состоялся показательный суд и на суде предстал он, Гаджи Гусейн, и его зять Хабиб, и старуха Шейда. Когда-то Гаджи Гусейн мечтал быть центром внимания в большом доме Ага Бабы, и мечты его, казалось, сбылись: зал был полон сельчан и чужаков, наводнивших родное селение, и незнакомых женщин без покрывал, с любопытством глядевших на Гаджи Гусейна. Но все они, понимал Гаджи Гусейн, рады его унижению. Он отводил глаза и через окно видел краешек родного дома и воздвигнутую им каменную ограду двойной высоты.
Сперва допрашивали Хабиба. Гаджи Гусейн часто слышал свое имя в ответах, которые давал его зять суду. И хотя Гаджи Гусейн не совсем хорошо понимал, о чем говорит Хабиб, он чувствовал, что хитрый зять топит его, точно слепого котенка.
Когда Гаджи Гусейна спросили, судился ли он когда-либо, сердце его ожесточилось: что он, в самом деле, базарный вор или разбойник?
— Я всю жизнь не нарушал законов, которыми жили мои деды и прадеды, — угрюмо и гордо сказал Гаджи Гусейн.
— Смотри! — сказал ему тогда председатель, указывая на красное полотно на стене.
Все обратили взоры на полотно, и шорох пронесся по залу оттого, что все разом стали читать написанное. Гаджи Гусейн тоже хотел прочесть написанное, но взор его точно уперся в ночную зимнюю тьму: надпись была на новом алфавите. Тогда председатель прочел вслух слова Ленина на плакате: «Из тех законов, которые ставили женщину в положение подчиненное, в советских республиках не осталось камня на камне».
И он разъяснил сельчанам эти слова с терпеливой настойчивостью, так как знал, что есть еще в зале люди, таящие в своем сердце верность старому закону.
Гаджи Гусейн слушал, глядя в окно, и, казалось, воочию видел, как рушится воздвигнутая им двойной высоты каменная ограда, которую он считал нерушимой, вовеки веков незыблемой, точно памятники на старом кладбище.
Саяра пролежала в больнице несколько месяцев. Когда ее раны зажили, уже была весна. Красные маки, желтые цветы гусиного лука, синие казачки́ цвели на зеленеющих склонах холмов.
Саяра наблюдала, как раны ее затягиваются свежей розовой кожей и как наполняются силой мускулы, и в сердце ее закрадывалась тревога, потому что близился час ее возвращения в дом отца или мужа. Делишад понимала эту тревогу.
— Мы не пустим тебя назад, — говорила она Саяре.
Но Саяра качала головой, думая, что это лишь слова утешения, — разве может кто-нибудь, кроме аллаха, разлучить дочь с отцом или жену с мужем?
И Делишад, будто прочтя мысли Саяры, стала ей разъяснять, что позади то время, когда лишь аллах мог разлучить дочь с отцом или жену с мужем, что советская власть уже освободила Саяру от отца и мужа, потому что они были злы и жестоки с той, кто достоин любви и уважения, — с дочерью и женой. Делишад поведала Саяре, что Гаджи Гусейна и Хабиба нет больше в селении, и что не скоро они вернутся назад, и что, даже вернувшись, они не посмеют поступать, как прежде. Делишад рассказала Саяре, как ликовали сельчане, когда суд вынес решение.
— Скоро ни в одном селении не будет таких людей, как Гаджи Гусейн и Хабиб. Это говорю тебе я, твоя названая сестра Делишад, поверь! — сказала Делишад, обняв Саяру за плечи.
Саяра слушала Делишад, и, хотя ей трудно было поверить этим словам, они мало-помалу проникли в сознание. И Саяра поверила своей названой сестре Делишад, потому что в словах той и впрямь была одна только правда.
В эту пору приехал к Делишад в гости Зейнал. Делишад привела отца в больничный сад, где проводила теперь дни Саяра, сидя в соломенном кресле с азбукой на коленях. Зейнал протянул руку, и маленькая рука Саяры потонула в широкой руке Зейнала. Он сидел рядом с Саярой на белой больничной скамейке, расспрашивал, как случилась беда. Саяра рассказывала обо всем, не утаивая, и, волнуясь, стала сильней заикаться, и Зейнал ей сказал:
— В городе есть врачи, они вылечат тебя от заикания.
Тогда Саяра заплакала от радости и благодарности.
Зейнал был высок, как ее отец Гаджи Гусейн, и руки у него были тоже большие, и черные брови часто сходились в одну черную полосу, как у ее отца. Но слова у Зейнала были мягкие, теплые, совсем непохожие на жесткие, холодные слова Гаджи Гусейна, и они оживили сердце Саяры, как солнечные лучи весной оживляют цветы на склонах холмов. И Саяра почувствовала: всё, что близко и дорого Гаджи Гусейну,