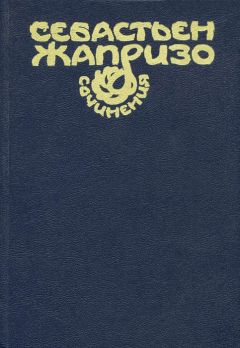У сестры Ехевед перехватило дыхание, слезы душили ее. И я, стоя в тесной кабине, едва сдерживался.
Тело Ехевед сестра привезла в Ленинград и вызвала из Москвы Геннадия Львовича. О боже, как он убивался. Сидел, закрывшись в кабинете, не ел, не пил. Теперь он сам не свой. Не в силах видеть никого. Взял отпуск и каждый день ездит на кладбище, оно находится недалеко от Пулковской обсерватории, и часами простаивает у могилы Ехевед.
Узнав, что я звоню из аэропорта и еще не видел Геннадия Львовича, сестра сказала, чтобы я повидался с ним, немного поддержал. Он, вероятно, еще дома.
В ту минуту я пообещал поехать, но потом понял — это выше моих сил. Я чувствовал себя так, словно был виноват в смерти Ехевед. Нет, ехать сейчас к нему нельзя. Горя я его не облегчу, а, наоборот, еще больше растравлю незатянувшуюся рану.
С аэродрома я поехал на кладбище, купив у входа букет георгинов.
В конце аллеи, усаженной елями, я остановился у свежей могилы, покрытой цветами. На каждом венке было ее имя. На каждом венке черными буквами любимое имя: «Ехевед», «Ехевед», «Ехевед»…
Это была ее могила, и все же я не верил. Не мог допустить, что здесь, под этим холмиком, лежит она, бездыханная. Не мог себе представить, что ее нет в живых, что она не существует, не двигается, не смеется, не радуется… Нет, это невозможно, невероятно. Я стоял у могилы и видел перед собой Ехевед такой, какой встретил ее впервые на гулянье, — в голубом сарафане с белыми крапинками, с распущенными, падающими на плечи золотистыми локонами. Видел сверкающий взгляд ее милых, ласковых синих глаз, слышал ее голос, видел такой, какой она была в тот летний вечер, когда мы гуляли среди озаренных луной привольных полей, какой была в грозовую ночь на крылечке…
Мог ли представить себе, что она, Ехевед, погибнет у этого самого крылечка такой трагической смертью? И вот я стою у ее могилы. Нет больше Ехевед. Нет… Вот здесь, в земле, нашла покой любовь моей юности, любовь всей моей жизни. Моя радость. Моя мечта. Всем лучшим во мне я обязан ей… Никогда больше не увижу я милое лицо, не услышу нежный, мягкий голос… Все кругом живет, а ее нет…
По обеим сторонам могилы — белые и алые розы. В открытых чашечках цветов копошатся с тихим жужжанием пчелы, стебли чуть покачиваются, цветы источают чудесный аромат. Они живут, они дышат. Пчелы живут, жучки, муравьи живут. Они быстро, деловито двигаются между цветами. Шепчется листва на ветках деревьев. Они живут. Они будут шептаться здесь, у ее могилы, и через год, и через десять лет. Та же луна заглянет сюда, освещая своим бледным светом этот холмик. И то же солнце будет всходить и заходить над землей. И звезды будут смотреть с высоты… И ленинградские белые ночи будут радовать влюбленных. Город будет жить. Мужчины, женщины, дети, юноши и девушки будут ходить по улицам, по которым ходила она, люди будут жить в квартире на улице Бродского, где жила она, сидеть в ложе театра, где сидела она. Без нее уже откроют новые звезды, пошлют в космос новые ракеты. Будут справлять праздники. Жизнь будет продолжаться, мир будет существовать, но без Ехевед. Ее уже никогда не будет. Она не узнает, что принесет завтрашний день нашей планете, которая вращается день и ночь, без конца, вместе с ее, Ехевед, могилой, вокруг своей оси, вокруг солнца нашей галактики.
А все могло быть иначе, если б я поехал с ней. Она ведь так меня просила! Тогда и этого несчастья, быть может, не случилось бы. Я бы ее сберег, разве бы допустил, чтобы она копала землю. И не было бы этого холмика на кладбище, не было бы черной рамки в газете, не было бы этих венков с ее именем. Она бы жила, работала, творила, дождалась бы Суламифи с внуком и доставляла бы радость всем, кто ее знал, видел, встречал… Она ведь так много знала, столько унесла с собой, стольким могла поделиться… И для меня навсегда, навечно останется тайной, что тогда произошло, почему так резко изменилось ее отношение ко мне…
Только теперь я подумал, что, быть может, она тогда нарочно хотела задушить свою любовь, чтобы всю себя отдать своей мечте, как я себя — музыке. Не хотела никого делить… Геннадий Львович… Она как-то обронила фразу: «Когда ты, Геннадий, ввел меня в большой мир науки…» А я… отвлекал бы ее от главного, что было смыслом ее жизни. Тогда даже музыка могла ей помешать. «Я нигде не бываю, даже на симфонических концертах…» — это тоже сказала она, между прочим, потому что иначе быть не могло…
Геннадий Львович любил ее… совсем иначе, чем я. Прежде всего думал о ней, о ее духовной жизни. Он оставался в теки. А я всю жизнь думал только о себе, своих чувствах, думал о своей любви, не понимая, что любовь прежде всего самоотверженность и стремление понять каждое движение души любимого человека. Только трагедия эта натолкнула меня на мысль: я и не подумал сделать то, что она просила, не придавал ей особого значения, этой ее просьбе. Собственными ушами слышал, как Геннадий Львович, когда она по телефону сказала ему о поездке, тут же с ней согласился, не задумавшись, по душе ему это или нет. А я отговаривался: а что скажет, а что подумает он… Это для меня было важно, а не ее сокровенное желание, такое естественное для ее тонкой души. И был горд: устоял!.. Перед чем?
Горд тем, что не понял ту, которая столько дала мне, наполняя счастьем и горением всю мою жизнь…
Резкий ветер полоснул по моей непокрытой голове холодным дождем. Но это меня не трогало, лишь больно было смотреть, как безжалостно хлещет он по незащищенной могиле и вода проникает через рыхлую землю туда, к ней. Я быстро снял пальто и укрыл могилу.
Через некоторое время тучи рассеялись. Дождь перестал. Только с окружающих деревьев еще падали редкие прозрачные капли. С противоположной стороны кладбища доносились приглушенные звуки траурной музыки. А неподалеку женщина в черном кого-то оплакивала.
Неожиданно выглянуло солнце, и птицы на ветках запели. Птицы не плачут. Птицы всегда поют. А может, плачут и они, только мы не слышим, не видим. Мое сердце рыдало…
Задумавшись, я не заметил, как кто-то подошел. Но вдруг почувствовал, что я не один. Обернувшись, увидел справа от себя мужа Ехевед. Сердце у меня замерло. Геннадий Львович, бледный, поседевший, ссутулившись, как после тяжелой болезни, стоял неподвижно, словно окаменел от горя. Скорбными покрасневшими глазами смотрел на сырую могилу Ехевед. Под моими ногами хрустнула ветка. Он поднял седую голову и увидел меня. Исхудавшие, впалые щеки его дрогнули. Он посмотрел удивленно, испуганно. Но через мгновенье в его взгляде опять были лишь горечь и боль.
Надо объяснить, как я здесь очутился, и вообще высказать все, что меня давно мучило, и он поймет, почему я пришел сюда, почему стою в глубоком трауре возле могилы его жены.
Но я не мог вымолвить ни слова, словно преступник, пойманный с поличным, и нет уже смысла оправдываться и что-то объяснять. Я совершил ошибку. Надо было сначала повидаться с ним, хотя бы позвонить и прийти сюда вместе. Тогда это выглядело бы совсем иначе, а сейчас… Я готов был обнять его, прижать к себе, выплакаться. Готов был выслушать от него самые горькие упреки. Он имел на это полное право. Пусть бы излил на меня свой гнев, прогнал, запретил стоять у ее могилы. Тогда мне было бы легче.
Но он молчал. Ничего не говорил, ничего не спрашивал. Стоял, уничтоженный горем, весь ушедший в себя.
Долго. Пока не заметил на могиле свежий букет ярко-красных георгинов.
— Это вы? — тихо спросил он, отрешенно взглянув на меня.
Я молча кивнул.
— Как вы узнали? — Он нагнулся, взял георгины и положил в изголовье могилы.
Не трогаясь с места, я сказал, что не решился его беспокоить, поэтому позвонил сестре и она мне обо всем рассказала.
— Она говорила, что, вы приходите сюда каждый день. Вот мы и встретились. Но все же я сожалею, что сначала не позвонил вам и не зашел.
— Вы здесь задержитесь? — спросил он негромко.
— Нет. Сегодня уезжаю.
Мы еще долго стояли у могилы, потом вместе ушли. Медленно, молча миновали аллею. За кладбищем он остановился, посмотрел на меня с глубокой печалью и сказал:
— Может, зайдем к нам. Хоть ненадолго. Повидаетесь с Шоломом. Вы, вероятно, давно его не видели?
— Да. Давно, очень давно, — подтвердил я. — С сорок пятого года, когда возвращался из Берлина.
— Тридцать лет назад, — удивился он. — С тех пор не видели? Почему? А сейчас… вы не хотите с ним встретиться? Он очень способный, талантливый, блестящий музыкант. Но так одинок. Ему уже тридцать пять. Может, вы поговорили бы с ним. Я так беспокоюсь за него. Ну, пока я жив… А потом? Суламифь далеко, очень далеко. Он ведь останется совсем один. Как он будет жить без семьи? Сегодня вы могли бы еще с ним повидаться. Через несколько дней он уезжает с ансамблем на БАМ.
Мне очень хотелось увидеть Шолома, ведь он мне был особенно дорог. Хотелось еще раз посетить дом, где она жила и каждая вещь напоминала о ней. Хоть немного побыть в эти трудные минуты с ее мужем, которого я уважал и любил. Но понимал — этого делать нельзя. А вдруг это укрепило бы в нем напрасные подозрения, которые раньше, вероятно, временами закрадывались в его душу.