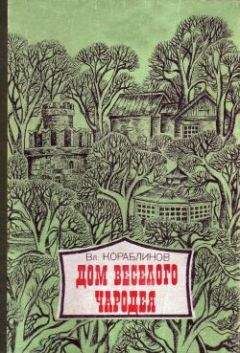С утра волновался за черепаху.
Так и есть, опять ничего не тронула. Салат, каша, морковка так и лежат, как утром Антон оставил. Забилась в угол, за тумбочку. Антон достал черепаху, пустил на стол. Скатерть зеленая, пусть думает, что это трава. Включил лампу. Пусть это солнце. Но черепаху ничто не радовало. Вяло перебирая лапами, чуть-чуть подвигалась на столе и опять затихла. Заболела?
Антон выбрал яблоко покраснее, откусил — сладко. Сунул черепахе прямо ко рту. Черепаха крепко сомкнула губы. Не всунешь! Попытался поить из ложки. Даже не пьет! Мама сегодня в день, когда еще придет. Хоть бы пила! Сколько без воды можно? Надо что-то делать…
Нашел в шкафу полотенце, завернул черепаху. Ничего, не простудится. Тепло. И бежать-то — через подъезд.
Ольга Сидоровна удивилась:
— Ты почему не в школе?
— Учительница заболела, — объяснил Антон искренне.
Про ту — другую, которая смотрела поверх, — он уже забыл.
Пустил черепаху на пол. Маврик шарахнулся, испугался. Кошка Кристина Вторая обнюхала, лениво тронула лапой. Черепаха, фыркнув, убралась в панцирь. Кристина Вторая отошла равнодушно, села и стала лизаться. Котята неизвестно как отнеслись: спали в коробке.
Даже от апельсина черепаха отказалась.
— Значит, не хочет, — сказала Ольга Сидоровна. — Ты ж насильно не ешь! А черепахи вообще зимой спят. Ее небось с тёплой печки подняли — давай, продавайся. Жили у нас черепахи, не больно интересный народ, но бывают шустрые, даже с балкона одна сиганула…
Глянула на Антона и осеклась.
Лицо Антона дрожало, силясь удержать слезы.
— Ты что, Антошка?
— Умрет… — Антон давился слезами.
— Они долго могут не есть, зачем же она умрет!
— Сколько?
Ольга Сидоровна не знала точно, забыла, ну, неделю, месяц. Дочь все знает, но она далеко.
— А не пить?
Ольга Сидоровна не знала — сколько. Тоже долго. Некоторые виды вовсе не пьют. И такая у них жила, — дочка всяких таскала.
— А это — какая?..
Ольга Сидоровна забыла, не может определить.
— А не умрет? — Антон всхлипнул, силясь сдержаться.
Ольга Сидоровна вздохнула:
— Ладно, в кино уж завтра схожу, раз такое дело. Собирай свою черепаху, едем к ветеринару, там мигом определят, чем кармить, как. Я с Мавриком все равно на днях собиралась, прививку делать пора. Маврик, гулять!
Маврик уже тащил поводок из прихожей.
— Когда едем, баба Оля? — Слезы враз высохли.
— Сейчас, чучело, только переоденусь. Мавр, а шлейку? Нет, Антон, ты это полотенце оставь. Да не в том дело, что замерзнет. Погоди! В сумках зверье повезем, тебе — сумка, мне — еумка. А то нас и в метро не пустят, собакам в метро нельзя…
— А черепахе?
— Про черепаху не знаю, маму спроси. Но мы лучше — в сумке…
— А в сумке пустят?
— Она у тебя ведь не очень крикливая, верно? Тихо будет сидеть?
— Тихо, — испугался Антон. — Она же тихая, ты видала.
— Тогда как-нибудь пройдем, — засмеялась Ольга Сидоровна. — За Мавра-то я ручаюсь, мы с ним старые нарушители…
13.40
В депо «Новоселки» на девятой канаве стоял больной состав.
Вчера утром машинист, заходя в тупик под оборот, увидел впереди вспышку — как молнию. Сразу снялся с автоведения. Но ни на ручном, ни на резервном машина не шла. По радио прокричал маневровому в хвостовой кабине, чтоб пытался оттуда. У того вперед тоже не шла. В глубь тупика наконец пошла. Убрались подальше, хорошо — есть куда убраться, длинный тупик.
Диспетчеру в горячке доложились не сразу. Три состава успели уйти на подречный участок и выстроиться там в ряд. Сбой выразился в трех снятых маршрутах и двух часах диспетчерской истерики, пока опять полностью вошли в график.
Ночью больной состав перегнали в депо. Теперь с утра разбирались: сперва — с машинистами в кабинете Шалая, потом — в головном вагоне, машина 3069, своими силами; вызвали еще автоведенцев, опять сидели над схемами в кабинете начальника; подняли документацию, — недавно с подъемочного машина; позвонили в депо «Ремонтное», чтобы ехали срочно. Опять все набились в кабину, человек десять. Внизу возле вагона крутился Серега-удочник, благо дверь открыта и все слыхать.
На задней стенке замкнуло, за сиденьем машиниста. Он-то отраженье впереди увидал — на контроллере: будто молния. Как кусачками провода перегрызло, и на кожухе — черное пятно, опалило кожух.
В тесной близости шевелились губы, носы, затылки, мешалось в кабине табачное дыхание взрослых мужчин, не избалованных пребыванием на свежем воздухе: тоннель, депо, кабинеты, снова тоннель. Щурились глаза в красных прожилках…
«А вставки почему не сгорели?» — «Значит, короткого замыкания не было». — «Как это не было, если Ярцев вспышку увидел, и вон пятно, гляди!» — «Значит, глухого не было, — так, плюнуло». — «Но вставка управления все равно должна бы сгореть. Или — автоведения!»— «Вставка на тридцать пять ампер? Если бы тут на тридцать пять замкнуло, мы бы сейчас не сбой графика разбирали с отменой трех поездов, а Ярцева хоронили б с музыкой».
В салоне автоведенцы открыли свой шкаф, тыкали к реле лампочкой, сообщая друг другу: «Эта чистая, эта чистая…»
Кто-то бегал через весь поезд в хвостовую кабину и пытался оттуда действовать. Ничего не могли найти! Как из той, так и из другой кабины машина исправно работала и на ход и на тормоз. Не получалось тоннельных условий, хоть тресни.
«Если, конечно, релюшка залипла, а потом отлипла от тряски…» — «Был у нас такой случай. Ага, с Иванчуком, помню». — «Кабы четвертый провод!» — «Может, бирки при монтаже перепутали?» — «Уже прозвонили, Гурий Степаныч, пятый». — «Значит, близко где-то подходят друг к другу и друг другу наводят». — «Вряд ли, Саша, столь грубая ошибка даже для нас невозможна». — «И на ход, зараза, идет!» — «А под пассажиров такой состав не подашь! Надо искать…» — «Я считаю, замыкание опять сделать». — «Вставка наверняка сгорит!»— «Там же не сгорела?» — «Там не сгорела, а тут сгорит». — «Вагон вообще сгорит». — «Ничего, пожарников вызовем». — «Обрати внимание — это опять три тысячи шестьдесят девятый, хитрый, скотина! Только забудешь о нем — снова чего-нибудь…»
Эта тема все выплывала: три тысячи шестьдесят девятый третий раз попадает в Случаи.
«Севастьянов этим вагоном стукнулся». — «И у Торопа с ним же было?» — «С ним, точно». — «Мужики, он же после подъемочного ремонта!» — «А все равно! Как его головным — дает опоздание на автоведении». — «Но ведь с подъемки!» — «Чудес не бывает, а чудесного полно». — «Севастьянов им стукнулся. Так тогда и не поняли». — «Не, это ремонтников Случай, точно». — «Так они тебе и возьмут. Сейчас приедут, докажут». — «Хитрый, только за ним и гляди!»
Машинист-инструктор Гущин, задумавшись, налетел возле состава на Серегу-удочника:
— Чего тут толчешься?
— Интересно… — расплылся Серега.
— А выдавать?
— Через восемь минут, я помню…
— Ну-ну.
Гущин поднялся в кабину, позвал:
— Гурий Степаныч, машинисты давно собрались!
Зам по эксплуатации Матвеев метнул головой — слышу, да, иду. Полез из-за контроллера боком — большой, грузный, с тяжелым лицом. Неинтеллигентный начисто, форма сидит мешком. Резко сдал в последнее время. А ведь не старый. На сколько ж он Павла Федоровича старше? Лет на пять, на шесть. Да, не больше…
Гущин ждал, пока зам по эксплуатации спустится пз кабины. Осторожно, будто беременный, нащупал ногой ступеньку. Спрыгнул.
— Долгополов приехал?
— Давно, — Гущин кивнул. — У Шалая сидит…
— Ревизор?
— В зале скучает…
— Развеселим, — мотнул головой, как боднул воздух. Шли рядом мимо канав и были сейчас контрастны, будто нарочно.
Никлый Матвеев…
А Гущин свеж, подтянут, шаги упругие. На него повсюду оглядывались с удовольствием — на улице, в театре, в кафе. Гущин знал и любил это дружелюбное внимание незнакомых людей, чувствовал себя сильным под этими взглядами, ощущал правильность своей жизни, хоть и так был уверен.
Нравилось просто идти по станции, не торопясь, в свете люстр, и видеть себя будто со стороны, их — пассажиров — глазами. Вот он идет навстречу — молодой, спокойный, с приятным и открытым лицом, исполненный достоинства и каких-то неведомых им, но, конечно, важных обязанностей, с тремя золотыми звездами на рукаве, чего-то добившийся в свои двадцать девять, и еще добьется..
Всегда было в нем это детское тщеславие и раньше даже нравилось Свете. Говорила, смеясь: «Я рядом с тобой — просто серая птичка». И Гущин любил обнять ее на людях — в кино, на собрании, — чуть напоказ, чтобы видели: не птичка — избранница. Но даже от Светки старался скрыть свои слабости, служебные неприятности, — когда бывали, переживал сам, один. И даже любовь свою к ней считал иногда за слабость. Плюнуть на все, зарыться лицом в ее волосы и сидеть так часами. И ничего не надо. Слабость, конечно.