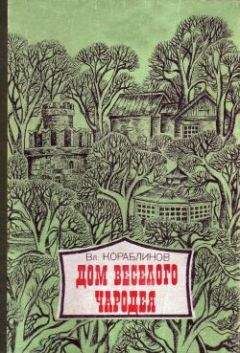Зароешься, закроешь глаза, а жена вдруг: «Андрюш, ты бы с людьми помягче, а?» Не хочется говорить, ничего не хочется. «Да я, Светик, воск мягкий…» Засмеется: «Нет, я же слышу, рассказывают». — «А ты думаешь, когда тебя нет, твои бабки на станции о тебе только хорошо говорят?» — «Не знаю…» — задумается. «В работе все равно обижаешь кого-то и кто-то обидится». — «А зачем ты Силаньеву так вчера ответил?» — «Силаньеву? А что я ответил?» — «Не помнишь?» — «Ей-богу, не помню». — «А люди помнят…»
Дежурный по депо Николаич сидел на лавочке, где написано «для курения», и был в валенках, как всегда, не по форме.
Матвеев остановился:
— Как ноги-то, Николаич? Путевку тебе хлопочем.
— Ничего, сморились. Сейчас с ними опять побежим..
— Ты тише бегай. Удочник у тебя толковый…
— Этот всюду с носом, — кивнул Николаич, переступая валенками.
— Вот его и гоняй.
— Гоняется, — кивнул Николаич. — Шустрик! А ты все мелькаешь, Степаныч, все тебя вижу. В депо уж ночуешь?
— Почти, — улыбнулся Матвеев. — С шести утра тут.
Гущин, слушая, думал, что ни к чему заму по эксплуатации обсуждать со всяким приемщиком, хоть бы и с Николаичем, свои дела. Когда пришел, зачем. Создает только работникам иллюзию домашности и ослабляет дисциплину. Но Матвеев это любит, в кабинете запросто толкутся в любое время, со своим личным. А потом вот — Случаи…
— Делов всех не переделаешь, — кивнул Николаич.
А прав был старый приемщик: Матвеев, вообще-то, соврал. Вдруг вечером, как представил, невмоготу сделалось ехать домой. Позвонил, что занят. Ирина заахала, слова незначительные и мелкие, будто горох, так и посыпались в ухо из трубки. Быстро смял разговор. От молодости, что ли, ее так волнует, что о нем говорят в Управлении, как бы не сняли. Или раньше ошибся. Никакая была не любовь, а просто — устройство жизни. За зама по эксплуатации выходила, это вернее. А любить в нем чего молодой-то женщине? Утром постоял перед зеркалом в пустом еще коридоре. Давно уж так на себя не глядел. Нагляделся. Башка вся сивая, веки набрякли, взгляд дохлый, будто у рыбы. Тьфу, вид.
Ничего не сказал Ирине, что решил подать по собственному желанию. Подаст — узнает. Контроллер еще не забыл, без дела не будем…
Даже Славика не хотелось видеть. Это Матвеева больше всего пугало., что он не чувствует к Славику нежности, как когда-то с Шуркой. Шурку, бывало, за толстую пятку возьмешь, и душа уже покатилась. А тут— только жалость, как на сироту смотришь. На колени посадишь — горячий, легкий, смеется беззубым ртом, тянется. Лялякаешь, а в висках стучит: поздно, вот и сын, а ничего нет, все поздно. Чего поздно — и сам не знаешь, все есть.
Позвонил с утра Соне на станцию, голос услышал — и сразу душа опять покатилась. Нет, еще живой. Не выдержал: «Поговорить надо». — «Не о чем, Гурий Степаныч». Шурка последний экзамен сдает, зайти есть причина. А чего теперь Соня? Ушел сам.
Вчера допоздна приводил в порядок бумаги, папка к папке. Никакой чтобы путаницы для человека, который придет. Сам Гурий Степаныч проще находил в беспорядке, имел в беспорядке свою систему. Но другому она не сгодится. Говоря про себя «другой», даже мысленно не ставил фамилию, обходил опасное место, как и предположений никаких не имел — кто будет…
Еще проблема в депо приспела: машинисты стареют, дожило производство. Малеева подчистую комиссовали, Поженяна, Крутикова. Белых на пределе ходит, грудная жаба, есть и еще. Машинисты все классные, крепкие мужики, пятьдесят с чутем. А привычная жизнь летит под откос. На линию-то врачи не допустят, но в депо можно некоторых, все же при родном деле — приемщиком, дежурным. Поженян вон пошел в слесарку, этот на все руки. А свободных мест в депо нет. Тут как раз зам по эксплуатации должен думать — кого попросить, кого и куда подвинуть, молодых подтолкнуть на трассу, пару единиц еще выбить бы в Службе. Не успел выбить. А другой… сможет и, главное, что захочет смочь. Николаич, к примеру, сразу ставится под угрозу — ревматизм, возраст. А тридцать семь лет отъездил, один, как палец, — работой держится…
Долго стоял у окна.
Светофоры светились, как светляки. Составы выныривали из темной рампы, длинные их тела горели живым теплым светом, яркость их учерняла бледноватую ленинградскую ночь, будто сгущала ночь возле депо. Хрипловатый голос дежурного с блок-поста, единственного на три смены мужчины, разносился над темными путями по громкоговорящей связи и был сейчас как вороний карр…
Около двух, когда напряжение уже сняли, спустился в депо. Уборщицы, перекликаясь, словно в лесу, прибирали составы. Торцовые двери открыты, и оттого состав был как один бесконечно длинный вагон — проходи сквозь. На мойке еще работали. Свет горел у ремонтников. Вентиляторы гудели так, будто решились взлететь. Дежурный пробежал в ватнике и ушанке. Холодно ночью, все же апрель. Гурий Степаныч поднял воротник кителя — пробирает.
Задержался возле Доски приказов. «Машинисту первого класса Белых исполняется пятьдесят лет…»
«Поздно гуляете, Гурий Степаныч!»
Матвеев вздрогнул, не слышал шагов.
Рядом стоял, неизвестно откуда взявшись, литсотрудник многотиражки Хижняк, длинный, насмешливый и непонятный для зама по эксплуатации человек… Как случись что — он уже тут. И ничего не случись, тоже, выходит, тут. Присказка у него: «Я не для того, чтоб писать, а просто хочу понять для себя…» А чего понять — непонятно.
«Я-то на службе, — хмуро сказал Матвеев. — А вы зачем бродите?»
«Смотрю, что за ночь в депо».
«Спать ночью надо», — посоветовал зам по эксплуатации.
«Любопытство мешает, — засмеялся Хижняк, длинное тело его качнулось извилисто в полумраке. — Да вы не думайте, Гурий Степаныч, я писать ничего не буду. Вот стишок, правда, сейчас написал. Сам придумал, сам слова выучил. Хотите прочту?»
«Ну, прочти…» — ошалело молвил зам по эксплуатации.
Стихов Матвеев не читал сроду. Один только помнил, что Шурка сказала в четыре года: «Быстро яблочко съедим, очень маму удивим». До сих пор удивлялся, как ловко у Шурки вышло.
Хижняк уже говорил, раскачиваясь:
«Усталый ток с состава стек, и обесточилась канава, лишь удочка еще дрожала, дежурный шел наискосок, и от него — наискосок — бесшумно крыса пробежала. Вверху кричали воробьи средь металлических сплетений, и странные, лесные, тени ложились от сплетений вниз…»
Воробьи всю зиму жили в депо. На рассвете, перед подачей напряжения, орали как бешеные. Сейчас-то дрыхнут вверху.
Высоко вверх уходило депо, метров пятнадцать, холодно взблескивали вверху металлические балки, сплетаясь, будто там, вверху, депо еще не доделано, еще покрасят и обклеят обоями..
Знакомые слова незнакомо цеплялись друг за дружку, будто литсотрудник Хижняк медленно льет на темя зама по эксплуатации тепловатую бесконечную воду. Глупые, конечно, стишки.
«Ток не лошадь, чтобы устать», — хмуро сказал Матвеев.
«Это верно», — засмеялся Хижняк.
«В газете, что ли, будут такие стихи?»
«Что вы, Гурий Степаныч! Наша газета серьезная. Так, для себя, чтобы лучше кругом запомнить. У меня память глупая: срифмую — запомню. Не понравилось? Жаль…» Уже колыхнулся вроде — пошел.
«Куда? — остановил зам по эксплуатации. Дежурная по комнатам отдыха дальше туалета не пустит без визы начальника, сегодня такая. — Идем вместе. Поспать-то надо».
«Можно и поспать», — согласился Хижняк. Возле пятой канавы зацепил ногою за поводок: «Это чего такое?»
«Чтоб вагон не бросало в стороны», — пояснил неохотно Матвеев.
«А, поводки, — обрадовался чему-то Хижняк. — Не узнал! Похоже на ноги кузнечиков, если кузнечик — робот. Не находите?»
На несерьезное это замечание зам по эксплуатации не отозвался. Хотя даже рад был, честно-то говоря, сейчас Хижняку, пусть болтает свои стишки, что хочет, лишь бы не думать. Вдруг сказал неожиданно для себя:
«Дела сдавать собираюсь…»
«Напрасно, Турий Степаныч», — сказал Хижняк серьезно, будто что смыслил.
«Да нет, пора. Три Случая за квартал, такого еще не бывало. Кто-то и отвечать должен».
«Именно вы?..»
«По должности, — усмехнулся зам по эксплуатации. — Анекдот знаете? Сидит волк на лужайке, сытый, ковыряет во рту зубочисткой. Вдруг заяц выскакивает: «Съешь меня!» — «Это еще зачем?» — «Съешь, дорогой, боюсь! За холмом верблюдов кастрируют!» — «Ты-то тут при чем?» — «А-а-а, докажи, что ты не верблюд!» Это так, анекдот, конечно. Но я должен — по должности и по справедливости…»
Про себя Матвеев еще подумал, что, может, и в «Новоселках» что-то вечером было, если не примстилось от бдительности машинисту-инструктору. Надо утром проверить. Если снова Случай, нечего и заявление писать, под Случай по собственному желанию не уходят.
Литсотрудник даже не улыбнулся на анекдот, будто что смыслил.