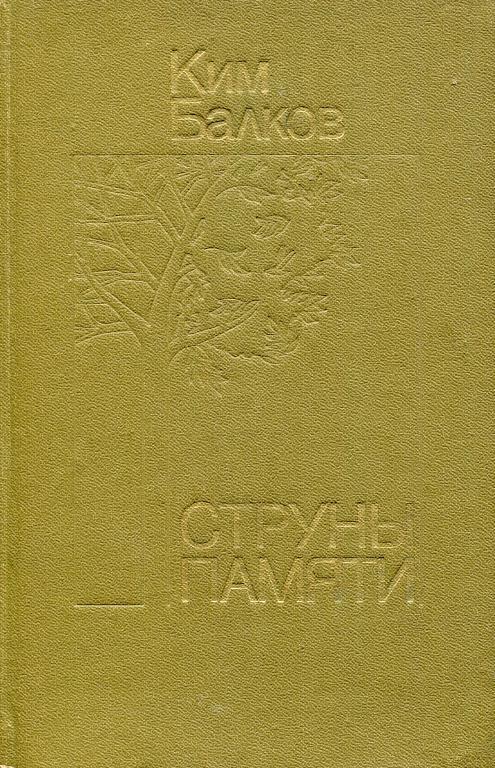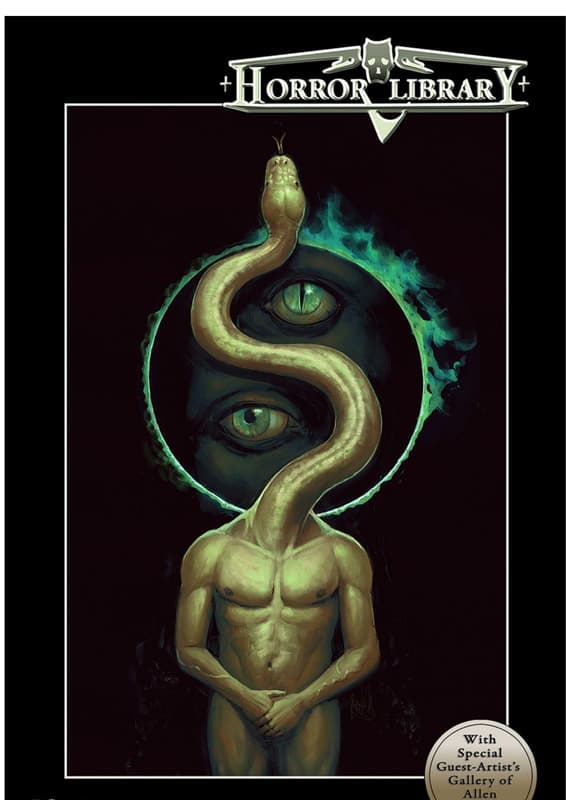но она не замечает этого, целует Ваньчатку, плача, прижимает к груди. Потом уводит его, смущенного, из конторы. А через полчаса и мы с дядькой Степаном выходим на крыльцо. Дядька Степан говорит:
— Кобылы-то, как учуяли стаю, враз сбились в круг и жеребят вытолкали на середину. А буланый-то, жеребец-то, начал носиться, не подпуская волков. Я видел: все земля изрыта и зверье есть побитое… Силен был буланый, но и он сплоховал, когда матерый волчище запутался у него в хвосте. Вот тут и выскочил на своем кауром Ваньчатка, думая пособить буланому… Лешай! Ему бы спрятаться, раз такая напасть, а он… но… Батькина косточка у Ваньчатки, и не гляди, что хилый, да-а… Ну, значит, волки-то смяли его коня и самого чуть не полоснули по горлу. Ладно еще, не сплоховал Ваньчатка, поднялся с земли да к жеребчику, тому самому, со звездою на лбу… — Дядька Степан ненадолго замолкает, говорит с недоумением: — Я потом пытался поймать жеребчика. Куда там!.. И близко не подпускает. А Ваньчатка-то без узды справился с ним. Надо же, а?.. Матадур, истинно!.. Если б не Ваньчатка, волки смяли бы табун…
Через неделю мы с Ваньчаткой перегоняем табун на новое место. Я пытаюсь вызнать у него, что было в ту ночь да как было?.. Ваньчатка молчит. Мне кажется, он и не помнит всего-то…
Степенно бредут кобылы, низко, от гнуса ли, от недавнего ли пережитого, до самой земли опустив морды; резвятся жеребята. И облако за ними тянется розовое.
А утром Шурка, приятель мой давний, стучит в окно комнаты, где я сплю. Нехотя поднимаюсь с кровати, подхожу к окну.
— Пошли кино смотреть, — говорит Шурка. — Отец приехал. Евсей…
Сон как рукой сняло. Не мешкая, натягиваю брюки, выскакиваю во двор.
Я помню Шуркиного отца еще по тем дням, когда он вернулся с войны… Волосы у него густые, кудрявые, срыжа, падают на лоб; худощавый, подтянутый, на гимнастерке погоны младшего лейтенанта. Одно слово — строевой офицер. С месяц он тогда пробыл дома, веселясь почем зря, а как деньги вышли, заскучал… Пробовал устроиться на работу, но что-то у него не получилось, и он укатил из деревни. Нынче уж четвертый год пошел, как он не живет дома. Правда, изредка наведывается, побудет недели два и снова уезжает.
Шуркина мать ругает мужа, но это на него не действует: человек он спокойный, и, я думаю, ему хоть кол на голове теши… от своего понятия о жизни он не отступит. Во всяком случае, так было до прошлого года.
— А что мать?.. — спрашиваю у Шурки.
— На порог не пускает, иди, говорит, туда, откуда пришел. И видеть тебя не хочу.
Что ни год у тети Глани, Шуркиной матери, рождается ребенок. Нередко мы, пацаны, увидев забрюхатевшую тетю Гланю, шутки ради спрашиваем у Шурки:
— Что, отец побывал дома?
— А у вас что, глаз нету?.. — с досадой говорит Шурка.
Подходим к низкому, с черной прохудившейся крышей дому. Издали видим: мужчина в гимнастерке без погон стоит у крыльца, мнет в руках фуражку. Шурка, подойдя к нему, спрашивает не без ехидства:
— Все еще не пускает?..
— Не пускает, — виновато говорит мужчина. — Уж как только ни уговаривал, а не пускает. Что теперь делать? Обратно податься?..
— Обратно никогда не поздно, — усмехается Шурка. — А попытаться еще раз надо бы… За что же кровь проливали?
Евсей, а этот мужчина и есть Евсей — Шуркин отец, кивает головой, потом говорит голосом страстным и решительным:
— Зови мать! — бросает наземь фуражку, становится на колени. Но тут замечает меня, хмурится: — Кто такой?…
— Не стесняйся. Свой… Он и в прошлый раз был, когда ты на коленях входил в избу.
Евсей вздыхает. Шурка поднимается на крыльцо, стучит в дверь. Никто не открывает, и тогда он кричит:
— Ма-а-ать, чего заперлась? Я это! Я-а!..
Проходит минута-другая. Слышится скрип половицы, потом звякает щеколда.
Шурка, ухватясь обеими руками за скобу, распахивает дверь и тут же оборачивается, глядит на Евсея веселыми глазами:
— Действуй, отец!
В проеме двери стоит тетя Гланя. Евсей жалобно смотрит на нее, тянет руки:
— Гланюшка, радость моя, брось дурить! Людей стыдно. Ведь я не чужой тебе. — И торопливо, подсобляя себе руками, на коленях одолевает приступки крыльца. И вот он уже у двери.
Тетя Гланя не успевает и глазом моргнуть, а Евсей уже крепко держит ее за подол платья.
— Пусти, — тихо, с угрозой говорит она.
Но Евсей будто не слышит.
— Посторонись-ка, — просит он. — Дай пройти человеку, прижать к сердцу родных детишек.
Тетя Гланя наклоняется, в руках у нее оказывается ременная плеть, она несильно ударяет ею Евсея. Тот слабо ойкает, говорит:
— Пошибчее, радость моя! Так его, так!..
Тетя Гланя отбрасывает ременную плеть, плачет:
— Господи, что же мне, бедной, делать? Куда спрятаться от этого человека?
— А чего прятаться? — спрашивает Евсей. — Иль чувствуешь за собою вину?
Тетя Гланя вскрикивает, долго ругается, призывая на голову Евсея все мыслимые и немыслимые напасти. Уходит в избу.
Евсей встает на ноги, отряхивает брюки.
— Все. Больше кина не будет, — говорит Шурка.
Помедлив, следом за Евсеем заходим в избу. Присаживаемся возле порога на лавку.
На полу, разметавшись, спят ребятишки. Рыжеволосые, с длинными бледными лицами. Уже после войны народились на свет… Погодки… Старшему пять лет.
Тетя Гланя стоит, прислонившись к печи, и неприязненно смотрит на Евсея. Она худая, жилистая, руки у нее крупные, с толстыми венами. Евсей рядом с ней кажется почти мальчиком. У него стройная фигура, плечи узкие, неразвитые. Очень подвижен, секунды не постоит на месте, все шепчет что-то безвольным ртом. Но вот слегка придерживает шаг, оказывается подле тетки Глани.
— Радость моя, — слышится его недоумевающий голос, — отчего пять-то?.. Ребятишек-то отчего пять?.. Шурка не в счет. Шурка довоенный. А этих-то, младших-то, отчего пять?
Тетя Гланя отслоняется от печи; у нее слегка подрагивают ноздри, когда она спрашивает:
— А сколько их должно быть, по-твоему?..
Евсей чуть отступает от нее:
— Тебе не кажется, что один из них лишний?
— Что-о?.. — сурово говорит тетя Гланя.
Евсей отступает еще дальше.
— Извини, дорогая. Видать, обсчитался.
Шурка негромко посмеивается.
Евсей долго ходит по избе, потом останавливается подле ребятишек, говорит:
— Пора будить… Как-никак отец приехал.
— Отец?.. — Они сроду его не знают. Тьфу!.. — говорит тетя Гланя и скрывается за перегородкой.
— Евсей, — спрашивает Шурка, — ты хоть привез детишкам на молочишко? Они ж будут просить.
— А вот и не привез, — обижается Евсей. — Что я там, богатством разжился? Скажите спасибо, что себя привез.
Я