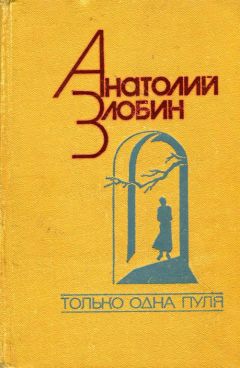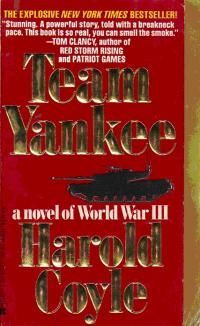Маргарита Александровна вернулась, поставила на стол круглую серебряную пепельницу с восточным орнаментом по краям, обогнула стол и снова уселась напротив.
— Быстро нашли меня? — спросила она, перетягиваясь к нему над столом с сигаретой в зубах, чтобы прикурить от его зажигалки. Ее волосы коснулись его руки, он увидел ее глаза так близко, что мог бы заглянуть в самую их глубину, но глаза оставались по-прежнему настороженными и не раскрывались встречно, они были такими же большими, с тем же светло-голубым оттенком, даже больше стали, взгляд оторочен синей тушью, ведь нынче в моде большие глаза.
Прикурила, откинулась на стуле, пустила над столом косую белесую струйку.
— Верно, долго искали? — спросила снова.
Он хотел отчаянно ответить: двадцать пять лет, но вместо того пустился в транспортные бытовизмы: метро, автобус, как он следовал за всеми поворотами записки. Она не перебивала, лишь раз заметила, что в выходные с транспортом легче, а после опять замолчала. Вопросов у нее больше не было.
— А вы совсем не изменились, Маргарита Александровна, — молвил он, пытаясь наивно растопить ее по женской линии.
Она не клюнула, ибо давно перешагнула рубежи желанной мужской лести.
— Что вы? Заботы, заботы. Я ведь исконная москвичка, всегда жила в центре, а под старость эвон куда забралась. Иногда даже кажется, будто это другой город.
Разговор сам собой соскользнул на тему «далеко забралась». Но и эта многообещающая тема начала иссякать.
Он замолчал, продолжая исподтишка приглядываться к ней. Нет, что там ни говорите, а давнее страдание навсегда запеклось на ее лице, надрезав шрамом припухлую нижнюю губу. Впрочем, память есть самый искусный ретушер на свете; теперь, спустя десятилетия, это уже не портило лица, скорее наоборот, украшало его, придавая ему особое выражение, которое умеют примечать сорокасемилетние мужчины вроде нашего героя: про себя он называл такие рты страдательными. Теперь Сухарев мог бы разгадать и былую загадку ее лица, она состояла в легкой асимметричности щек, которая с годами усилилась, но в том ли дело? Научная эта разгадка ничего не объясняла. Вот они сидят и оба не решаются коснуться главного. Лучше бы она вскрикнула по-русски: вот не ждала… А он? Но ведь он первым пришел. Но он пришел не ради этой замкнутости, он за прошлым пришел, а прошлым тут и не пахло.
Его вела сюда ее былая озаренность, но свет обратился в холод, доверчивость в отчужденность. Их разделяет полированный стол с веселыми скатерками, но кажется, будто это глухая стена, или бездонная пропасть, или темный лес, не докричаться сквозь них до живого голоса.
Он попытался еще раз переменить тему:
— Вы, я смотрю, не изменили своей японистике? — и указал глазами на длинные акварельные какэмоно, повешенные над тахтой. — Похоже, это Утамаро?
— Это его ученик — Утамаро работал больше в манере укиеэ. — Она с готовностью пустилась в объяснения. Поговорили о ее работе, она защитилась по лингвистике, изредка занимается переводами, хорошо, что на работу не надо каждый… Маргарита Александровна отвечала даже с бойкостью, но явно не желала возвращаться в прошлое, а иной связи не могло возникнуть между ними. Кто они друг другу? Только Володя Коркин и был их единственной связью, а его-то как раз и не было в этой комнате, сколько он ни приглядывался. Не было Володи — пуля просвистела и канула, не оставив следа. И лишь надламывалась нижняя губа чаще, чем следовало.
Сухарев решительно вдавил сигарету в пепельницу.
— Я хотел узнать… — он собирался сказать «извиниться», но в самый последний момент у него не получилось, и он закончил более сдержанно: — Я хотел спросить о его матери.
— О чьей матери? — она испуганно посмотрела на книжную полку, и он заметил там под бородатым Хемингуэем крошечную фотографию пожилой женщины. Маргарита Александровна быстро перебежала глазами на него, как бы пытаясь отстраниться от его назойливых вопросов. Отчего так невыносимо возвращаться к ушедшему? Продолжая смотреть на него, Маргарита Александровна зябко повела плечами. — Перестали топить, — молвила она, уходя от вопроса.
— Я спрашиваю вас о матери Володи Коркина, — повторил он тверже.
— Я не забыла его, — странно отвечала она, и Сухарев поразился внезапной пустоте ее голоса. — А Вера Федоровна умерла семь лет назад, она совсем ослепла под конец, я ее хоронила… — Маргарита Александровна, не глядя, вытянула платок из-за спины, закутала плечи и снова нервно поежилась.
— Я ведь был у нее…
— Да, она потом говорила мне, — ответила она с тем же испугом.
— Сразу после вас к ней и пошел, в тех же сапогах…
— Я знаю.
Черт возьми, ничем ее не прошибешь. Сухарев ощутил обжигающую волну. Неужели в тебе ничего не просыпается при этих воспоминаниях? Недаром сказано: прошлое неизменно и пусть остается таковым, ворошить его опасно, а в лирических вариантах и гибельно для былого чувства. Лучше бы он до вернисажа поехал к Харитонову, там непринужденно, там тепло, там радость общения. Огромная, в старинном особняке, квартира, в которой можно заблудиться, хлебосольный дом, самовар стоит на столе с десяти утра, вечно полно народу: модные поэты и хирурги-гинекологи, прославленные физики и непризнанные художники, барды с гитарами и бойкие, пробивающиеся в жизнь актрисульки, все сплошь мыслители и прогрессисты, одни приходят, другие исчезают, а хозяин сидит в кабинете, обложившись рукописями, в каждой комнате своя жизнь: магнитофон с Высоцким, преферанс, телек, последний номер «Шпигеля» и «Жур де Франс», полнотелая улыбчивая хозяйка поспевает всюду и развлечет любого, впрочем, там никому нет дела, чем ты занят, только в кабинет не врывайся, а потом тетя Шура начистит селедки, напечет картошки в мундире, извлечет из холодильника водку, хозяин, низкорослый, быстрый, язвительный, выйдет из кабинета, раздавая кивки и поцелуи, все оживятся, усядутся за гигантский круглый стол, тот стол не разделяет, черт возьми, и пойдет интеллигентный треп под селедочку: телепатия и ее будущее, современное положение интеллигенции, тибетская медицина, связь с внеземными цивилизациями, что делать с экономикой и русофилами, как вам понравилась последняя постановка Любимова, что сказал Михаил Григорьевич или Аркадий Максимович, и все, что душа пожелает, планетарный диалог, картошку в мундире там подают на саксонском фарфоре, а мебель? о, там уже отказались от современных гарнитуров, там последняя новость: русская старина, во всех комнатах сплошной Александр, Павел и даже чуть-чуть Елизаветы, я тоже хаживаю иногда в харитоновский дом, жаль, что еще не привелось встретиться там лично с Иваном Даниловичем, но надеюсь, надеюсь, куда же он теперь денется? вот он в этот момент как раз хочет туда навостриться от Маргариты Александровны, даже на часы тайно глянул: всего половина третьего, еще не вечер… Отчего мы закованы в немоту?
— Вы, кажется, задумались о чем-то? — услышал он.
— Простите, в самом деле, немножко…
— Я спрашивала вас, не хотите ли кофе?
— Кофе? Разве что на дорожку. Я ведь проездом в Москве, послезавтра улетаю.
— Так я сварю, — ответила Маргарита Александровна, старательно пропуская его экивоки.
И встала. Он тоже поднялся: зачем ему кофе? Сейчас они равнодушно потопчутся в передней, он снимет тапочки, передавая эстафету все равно кому: спасибо, что зашли, очень мило посидели, приятно было встретиться, не забывайте, заходите, буду весьма рада, спасибо и вам, непременно зайду еще через двадцать лет…
— Я даже квартиры вам не показала, — отозвалась Маргарита Александровна, заметив, что он оглядывает комнату.
Сухарев терпеливо осмотрел квартиру, хотя что там осматривать — однокомнатная, типовая, с балконом при кухне. Все же присутствие женщины накладывало определенную индивидуальность на эту унылую серийность, всякие там укиеэ, ракетки для тенниса, расписные тарелки на стенах, впрочем тоже ведь серийные, но что он ее ракеткам, что ему ее ракетки? Сухарев прилежно осмотрел, благо все можно окинуть единым взглядом, и уже из прихожей мимолетно заметил:
— Где вы достали такой гарнитур? Совсем не банально.
— Правда? — она вскинула на него радостные глаза, и наконец-то он увидел там все, что ему грезилось.
Ну как тут не удивиться причудливым странностям человеческой натуры, особенно женской. Смешно сказать, но именно так оно и вышло, именно с гарнитура, со всех этих пуфиков, шкафиков и прочего, и начался этот неожиданный (он же и долгожданный) перелом. Хотя кто знает, может, эти гарнитуры как раз для того и существуют, чтобы соединять людей нерасторжимыми связями, причем чем краше гарнитур, тем крепче единение.
Итак, она повторила:
— Правда, нравится? Вы это искренне? — А глаза светились как много-много лет назад.