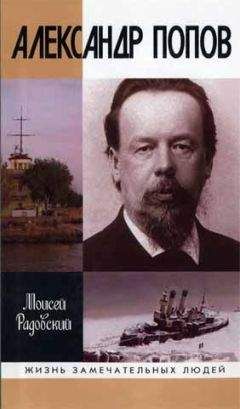Ознакомительная версия.
– Так кто тебе мешает, Чернявин? Разве мы тебя заставляем? Мы тебя не заставляем. Смотри, пожалуйста, – Зорин показал на окно, – заборов у нас нет, стражи нет, – никто тебя не держит и не уговаривает – иди себе!
– Мне некуда идти…
– Как некуда? Ого! Ты же говоришь, не хочу быть сборщиком, а хочу быть доктором.
– Куда же я пойду?
– Да в доктора и иди. Учиться там или как… Добивайся, пожалуйста.
– А у вас, значит, нельзя?
– А у нас тоже можно, только по-нашему.
– Сначала в сборочный цех?
– А что же ты думаешь? А если в сборочный? Думаешь, плохо?
– Я не думаю, что это плохо, а ты мне ничего не объяснил. С какой стати?
– А с такой стати: для нас это нужно. Ты у нас живешь два дня? Живешь. Шамаешь? Одели тебя, кровать тебе дали? А ты еще сегодня в столовой кричал: не имеете права! А почему? Откуда все это берется, какое тебе дело? Я – Чернявин, все мне подавайте. Я хочу быть доктором. А может, ты врешь? Откуда мы знаем? А мы можем сказать: иди себе, Чернявин – доктор Чернявин, к чертовой бабушке!
– Не скажете.
– Не скажем? Ого! Ты еще нас не знаешь! Можем так сказать, что тебя никакое начальство не спасет. Ты думаешь: уйду. А на самом деле мы тебя раньше прогоним. Для чего ты нам сдался? Мы тебя ни о чем не спросили, кто ты такой, откуда, а может, ты дернешь. Мы тебя приняли как товарища, одели, накормили и спать уложили. Так ты один, а нас колония. Ты против нас куражишься: хочу быть доктором, ты нам ни на копейку не доверяешь. Тебе нужно все доказать сразу, а почему ты вперед поверить не можешь, нам поверить?
– Кому поверить? – задумчиво спросил Игорь, чувствуя, что Санчо далеко не так туп, как ему показалось сначала.
– Как «кому»? Нам всем.
– Поверить?
– Ага, поверить. Видишь, ребята живут и работают, и учатся, что-то делают. Подумал бы: значит, у них какой-то смысл есть. А то ничего не видишь, кроме себя: я доктор. А какой ты доктор, если так спросить? Мы знаем, что мы – трудовая колония, это же видно, а откуда видно, что ты доктор?
Они сидели на диване в полутемной спальне, на дворе зажигались фонари, ребята куда-то разошлись. В коридоре слышались редкие шаги. Потом кто-то крикнул:
– Се-евка!
И стало очень тихо, так же тихо, как и на душе у Игоря. Он, конечно, не был убежден словами Санчо, но спорить с ним уже не хотелось, и возникло простое, легкое желание: почему в самом деле не попробовать? Этому народу можно, пожалуй, оказать некоторое доверие. И он сказал Санчо Зорину:
– Да это я к примеру. Ты не думай, что я такой бюрократ. А ты где работаешь?
– В сборочном цехе.
– Интересно там?
– Нет, не интересно.
– Вот видишь?
– А тебе только интересное подавай? Может, с музыкой? А если неинтересное что делать, так ты не можешь?
– Неинтересное делать?
Игорь присмотрелся к Зорину. У Санчо задорно горели глаза, горели они и у Игоря.
– Неинтересное делать? Это, сэр, довольно интересная мысль.
Сигнал «вставать» Игорь услышал без посторонней помощи. Было приятно – быстро и свободно вскочить с постели, но когда он начал заправлять кровать, оказалось, что это совершенно непосильная для него задача. Он посматривал на другие кровати и все делал так, как делали и остальные, но выходило гораздо хуже: поверхность постели получалась бугристая, складка шла косо, одеяло не помещалось по длине кровати, а его излишек никуда толком не укладывался. Санчо посмотрел и разрушил его работу:
– Смотри!
Санчо работал ловко, из его техники Игорь уловил главное назидание: складка на одеяле потому получалась прямая, что с самого начала Санчо укладывал одеяло сложенным вдвое, потом отворачивал[162] половину, складка сама выходила прямой, как стрела. Это Игорю понравилось.
– Спасибо, Санчо.
– Не стоит.
У Игоря было прекрасное утреннее настроение. Вместе со всеми он салютом встретил приход дежурства. Сегодня дежурил бригадир четвертой бригады – знаменитый в колонии Алеша Зырянский, именуемый чаще «Робеспьером[163]». И сегодня дежурные по бригадам мотались, «как соленые зайцы», а за десять минут до поверки сам Нестеренко взял тряпку и бросился протирать стекло на портрете Ворошилова, а дежурному по бригаде Харитону Савченко сказал с укором:
– Ты забыл, кто сегодня дежурит по колонии?
Харитон с озабоченной быстротой заглядывал в тумбочки и под матрацы. Когда уже строились на поверку, Нестеренко спросил:
– А ногти? Ногти у всех стрижены?
Кто-то глянул на ногти и закричал:
– Да черт его знает, где ножницы наши?
Нестеренко рассердился:
– Если искать ножницы, когда сигнал на поверку играют, так, конечно, никогда не найдешь. Чернявин, у тебя как?
– Да ничего, как будто…
– Как будто не считается. Гонтарь, давай ножницы. Да куда же ты режешь? Ну что ты наделал? Эх, Мишка!
Но уже входила в спальню поверка, и Нестеренко подал команду.
Зырянский был невысокого роста, лет шестнадцати. Он хорошо сложен, строен. Обращали на себя внимание его пристальные, умные, но в то же время и веселые серые глаза. Брови у Зырянского короткие, прямые, ближе к переносице они заметнее. Губы подвижные, очень выразительные.
Еще приветствуя бригаду, Зырянский увидел все, хотя как будто ничего не старался увидеть. Он не рыскал по спальне, ничего не искал, но, уходя, сказал своему компаньону по дежурству, скромной и тихой девочке – ДЧСК:
– Отметишь в рапорте: в спальне восьмой бригады грязь.
– Да какая же грязь, Алеша?
– А это что? Натерли пол, а потом набросали ногтей? Это не грязь, по-твоему?
Нестеренко ничего не ответил. В дверях Алеша сказал:
– Нельзя заниматься туалетом только для дежурного бригадира, это, Василь, ты хорошо знаешь. Да и новенькому вашему не остригли когтей. Салютует, а лапы, как у волка.
Нестеренко был очень расстроен после поверки и все повторял:
– Ах ты, черт! Вот нечистая сила! А все ты, Мишка. Человек влюбленный, а ногти какие. И как же это можно: на паркет. Хорошо, если Захаров так пропустит рапорт. А если передаст на общее собрание?
Миша Гонтарь ничего не сказал на это. Сидя на корточках, он подбирал с полу собственные ногти.
– Я тогда прямо и скажу на собрании: это наш влюбленный Михаил Гонтарь. Честное слово, так и скажу. А еще раз случится такое неряшество, попрошу Алексея посадить тебя часа на три. И Оксане все расскажу, чтоб знала.
Гонтарь так ничего и не ответил бригадиру. Достаточно того, что ему и перед своими было неловко. Нестеренко оставил его и тем же уставшим, недовольным голосом обратился к Игорю:
– Ты идешь в сборный цех или еще будешь ногами дрыгать?
Игорь был рад, что мог утешить бригадира хотя бы в этом вопросе:
– Иду.
На производство Игорь должен был выйти после обеда, во вторую смену. Это было хорошо: все-таки оттягивалась процедура первого рабочего опыта. После завтрака Игорь решил погулять в парке и искупаться. Но как только он вступил в парк, на первой же дорожке встретил «чудеснейшее видение» – девушку.
Уже и раньше, в своей «свободной жизни», Игорь стремился[164] понравиться девчатам и принимал для этого разные меры: заводил прическу, украшал костюм, произносил остроумные слова. В том, что он девушкам нравился, было для него смешное, что-то очень важное, свидетельствующее о какой-то привлекательной для людей силе. Но никогда еще не было, чтобы девушка ему самому очень понравилась. Он по-джентельменски привык отдавать должное привлекательности и красоте и считал себя в некотором роде знатоком в этой области, но всегда забывал о красавицах, как только они уходили из его поля зрения. И поэтому каждую новую девушку он привык встречать свободным любопытством донжуана.
Так он встретил и девушку в парке и прежде всего должен был признать, что она «чудесна». Это слово Игорь очень ценил, гордился его выразительностью и от самого себя скрывал, что унаследовал его от отца, который всегда говорил:
– Чудесный человек!
– Чудесная женщина!
– Чудесная мысль!
Девушка, проходившая по дорожке парка, была «чудесна». Это в особенности бросалось в глаза оттого, что одета она была очень бедно и некрасиво. Не было никаких сомнений в том, что она не колонистка – колонистки всегда чистюльки.
У нее было чуть-чуть смуглое лицо, очень редкого розовато-темного румянца, расходящегося по лицу без каких бы то ни было ослаблений или усилений, удивительно чистого и ровного. Ничто у нее в лице не блестело, ничто не было испорчено царапиной или прыщиком, редко у кого бывает такое чистое лицо. Из-под тонких черных бровей внимательно и немного смущенно смотрели большие карие глаза, белки которых казались золотисто-синими. Зачесанные к косе темные волосы, отливающие заметным каштановым блеском, непокорно рассыпались к вискам. Словом, девушка была действительно чудесна.
Ознакомительная версия.