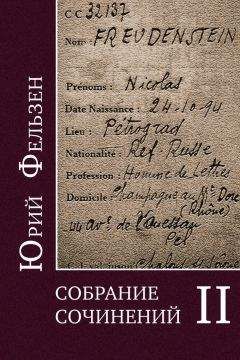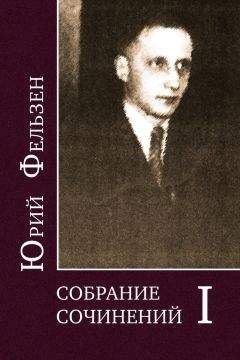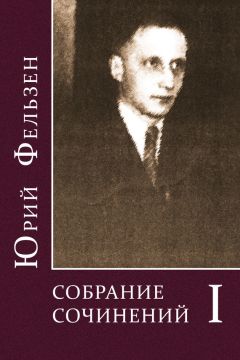Но воспоминание о бедном взгляде заставило добросовестно восстановить всю поездку – лихорадочный пыл вначале, поиски разряжения, как незнакомая женщина его дала и грубость сменилась добротой, может быть, случайной, приготовленной для другой, которая одна и выиграла. И верно: благодаря столь нужному, счастливо найденному отвлечению нетерпеливая нежность к Вале не ослабела и не распалась. И сколько ни возмущало неравенство, особенно в возможном применении к себе, я натыкался на простейшие законы любовно-животных отношений: кому-нибудь суждено быть до конца в выигрыше, другому – до конца жертвой, и никого не уравнивает произвольное чередование ролей.
Еще упрямее старался думать, почему мне выпал трудный опыт с Валей, а не мягкая возвышающая верность этой новой, с которой было целую ночь безукоризненно и могло так остаться навсегда, если бы не Валино существование и не моя с Валей встреча и связанность. Но тут уже конец всякой пытливости – и только страшно.
1.
Мне случайный знакомый, мальчишка, рассказал, что Вы в Петербурге, среди немногих, кому повезло, что Вы по-прежнему изящны, у Вас те же и новые друзья, и с ним как раз частая переписка. И мне пора назвать себя, довести до Вас странную тайну, сохраненную в трудные, невыносимо грубые эти годы.
Ведь должно кончиться чудо Вашей затянувшейся молодости – простите за правду, Вы умная. И мне давно время постареть, опуститься, не ждать. Пускай трогательным, но ненужным, смешным было бы наше позднее объяснение. А так всё же видимость достоинства и надежды.
Вы обо мне не имеете представления, я Вас не любил и не люблю и однако, я не склонен искусственно придумывать или вдохновенно воображать. И разве можно воображенное не утерять за столько лет?
Вероятно, Вас искало и нашло то сложное неопределенное мое состояние, которое называется готовностью любить. Не будь Вас, оно бы направилось на другую. И после Вас подвернулась другая, и еще одна, и третья, и с ними уточнилась, возросла, может быть, исчерпалась беспорядочная душевная щедрость. Но Вас из-за дурной судьбы она еле коснулась, а с ними портилось, потому что могли быть Вы.
Естественным – пусть медленным и трудным, как всё у меня – было Ваше возникновение среди безвыходности последних петербургских месяцев. Улыбаюсь, думая о себе, как ходил по Вашему пути и пугался возможных встреч. До чего хорошо, если в новое вовлекаешься естественно и незаметно. И почему каждому суждено обязываться, потом безнадежно хватать из пустоты.
В Вас сразу было две силы – женская, ошеломляющая, и поэтическая, конечно, моя, мной найденная. И удивительно! Никогда у меня не сливаются «куски жизни» – не помню, кто сказал – и неизбежное отражение. Оно достаточно свободное и оторванное и непременно между ними полоса отдыха, отвлечений, снов. Но вот, с первого Вашего появления, Вы досягаемая женщина и Вы героиня, одно усиливает остроту и отраду другого, и это поразительное соединение – разгадка, почему Вы не потускнели в памяти.
Прежде в таких случаях говорили «вечная любовь» или «любовь небесная». Мы стали добросовестнее, трезвее, мельче. Но и у меня это кровное, живое – замолчать нельзя. А Вам узнать, как Вы нечаянно вызвали старинную скрытую силу, любопытно.
Я Вас видел три раза за те полгода. Сперва в «Привале». Это единственный случай, который и Вы могли бы припомнить. Мне показалось тогда – знакомая. Из чахоточной санатории. Но откуда сияние, совершенство простоты, бархатное спокойствие?
Сходство бесспорное, только всё Ваше, мягко удлиненное, в той выступало углами. И вот, я могу поймать неуловимую нелепую связь – Вас обоих во мне – от первого неверного впечатления. Мне сразу же пришлось Вас окончательно разделить – простите за неловкое выражение. Сознание различало: Вы, спокойная, властная, она – надоедливо, скучно несчастливая. Тем неожиданнее о Вас стихи:
А мне Вас жаль, худые Ваши руки:
В них столько ждущей Вас и столько прошлой муки —
Мне бесконечно жаль.
Это ее «руки и муки». Ваша рука – изящная, стройная, безукоризненная. Но я невольно, не кривляясь, желая через жалость завлечь любовь, Вам писал. И стихи тяжелые – не умею выразить того, что в себе слышу. Теперь убедился, а тогда еще без колебания верил.
В «Привале» кисло в тот вечер, холодно, поэты бродят непристроенные. Кажется, всего два занятых столика, наш – довольно наглые молодые люди – и Ваш. Мы от скуки, и чтобы показать знакомство и влияние, уговариваем поэтов выступить. Они не очень рады знакомству и едва отвечают. Вы, наперекор времени, еще петербуржанка хорошего тона – замечаете только своих, Вам безразлично, имеются ли другие, и будут ли Вас забавлять.
Как вы сидите, мягко наклонившись, по-старинному грациозная, как поднимаются вместе с бокалом картинные пальцы, какое у Вас лицо, бледное, изящно удлиненное, и ровный блеск темных спокойных глаз и черных волос, как уютно из-за Вас у Вашего столика – это видение самое живое и теплое в моей памяти. Перехожу в восторженность, мне не свойственную, и досадны слова, неспособные передать именно эту позу, что-то раз и навсегда за меня решившую. В старых стихах и дневниках помню Ваши описания, более жаркие, более сложные и подробные – выходило одинаково непохоже.
Вероятно, было что-то духовнее, одухотвореннее слов. Люди прежних времен, преувеличивающие, непривыкшие жить без опоры, сказали бы «божественное» и на такое видение перенесли бы утерянную веру. Говорю «утерянную» – у кого же сразу две веры?
А у меня нет ни одной, я дальше в поисках правды и несчастливее их. Но и со мной разыгралось подобие той игры – потери и замены. Без громких предположений – утрата очаровательной, едва показанной, едва попробованной жизни.
В сущности, о главном я рассказал, вернее, снова на нем споткнулся. Можно остановиться, но теперь Вам и самой хочется разузнать, чем кончилась первая встреча, как произошли другие, незаметные и для меня важные, сколько Вы значили, значите, чему вдохновительница.
2.
Продолжилось ли слияние Вас и той санаторской знакомой или я нарочно себя уговорил, или придумал предлог подойти – сейчас уже не помню. Толчок, необходимость – это шло от меня, силу преодолеть смущение придавали мои молодые люди, не подталкиванье их, не смешки, а тот беззаботный хвастливый задор, который доводит до гораздо худшего.
Подойдя, я нагнулся к Вам и спросил что-то о санатории. Это вышло неубедительно и для той удивительной ночи кощунственно. Но Вы неожиданно помогли, Ваше ответное недоумение было таким любезным и благосклонным, как будто я мог и должен был подойти и ошибиться. Не делаю ложных приятных выводов – вы отвели мое выступление вполне по-светски. Но осталась надежда: неуклюжесть сглажена, Вы меня отметили и вдруг не забыли.
Вторая встреча в театре, я в большой и громкой компании, наша ложа – центр. Вы в соседней ложе. Ужасно мало помню. Вы стоите в коридоре, отсутствующая и чем-то поглощенная. Я стараюсь показать остроумие и оживление. Это, должно быть, один из последних спектаклей с подобранной прежней публикой. Мне приятно, что мои знакомые, я сам не хуже других, что мы одного круга с Вами. От того, что веду себя уверенно и обыкновенно, как другие – ничего неправильного, слабого или смешного – начинаю надеяться. Обманчивая простота Вашего соседства, доступность дружбы, как доступными кажутся чужое близкое богатство, везение или способности – и я хладнокровно откладываю, будто бы по своей воле, то, чего всё равно не могу добиться. Не знаю, придумались ли потом или действительно были случайно запомнившиеся подробности: бронзовые туфельки, суетливость Ваших друзей, что Вы нервничали…
Вам кажется непростительной моя забывчивость. Но она должна убедить, насколько всё письмо не Dichtung. Ведь творить – это легкомысленно сочетать бывшее и возможное, свое и чужое, это широта произвольно растяжимая. А вот держаться правды, ограничить себя совестливой передачей обрывков, непонятно расклеившихся в памяти – Вы сами видите, до чего выходит бедно.
Третья встреча – можете смеяться – манифестация за Учредительное собрание. Ее разогнали. Толпа бежит по разным улицам – и по нашей. Какие-то люди поднялись к нам в четвертый этаж – спрятаться, переждать. Нарочно, им назло спускаюсь и остаюсь на ступеньке подъезда. Мимо меня особенно тесное движение: каждому хочется безопасности, вот так спокойно идти по своему делу, тротуары как бы защитный цвет. Неожиданно Вы – почему Вы – вдвоем с приятельницей пронеслись, тяжело дыша, и тут же исчезли. Лицо у Вас в пятнах, погрубевшее от страха.
Это воспоминание нисколько Вас не роняет. Напротив, Вы ближе, и весело улыбаюсь, как ошибке учителя, как шалости тихого ребенка, шалости нерассчитанной, испугавшей его самого.
Больше Вас не видал. Рассказывать, какой Вы были после, вдали от себя – это целая молодость и начало зрелых лет. Выберу немногое, запомнившееся острее.