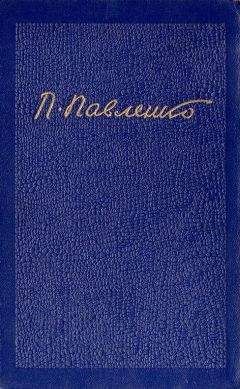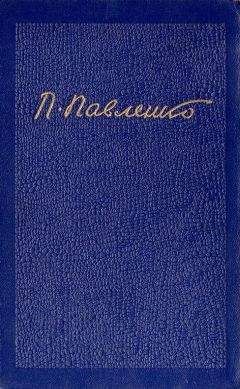— Что тут у вас поют об индустриализации? А что антирелигиозное? А о новом быте что? — спрашивают они и, получив ответ, разносят припев-частушку по разным рубрикам — четыре припева в антирелигиозные, четыре — в индустриальные, четыре — в новый быт.
Но я не слышал, да, говорят знающие люди, и не бывает так, чтобы пели, скажем, весь вечер только о боге:
Ах ты, бог, ты, наш бог,
Где ты обретаешься?
Чай, поди, от аэроплана
Где-нибудь скрываешься!
или только об урожае, о комбайнерах, или, наконец, только о любви.
Частушка — песня гибкая, маневренная. Ее куплеты каждый раз подбираются, монтируются с учетом обстановки песни и с тем обязательным чувством актуальности, которое всегда делает «запев» злободневным, отвечающим только что случившемуся и имеющим в виду реальное лицо.
Когда девушка запевает:
Юбочка коротенька,
Оборочка пришьется,
Я еще молоденька —
Залеточка найдется…
или:
Милый пашет, милый пашет
Черную земелюшку.
Подошла к нему, сказала:
«Запаши изменушку», —
то все догадываются, к кому относятся слова.
Когда парень выскажется, что
Хорошо траву косить,
Которая стоячая,
Хорошо девку любить,
Которая горячая. —
и кто-нибудь в ответ запоет:
Милый мой на сто процентов,
Я сама на двести пять.
Номер с номером не сходится,
Не буду с ним гулять, —
то и тут все понятно, близко поющим.
Поздней ночью в бригаде, где весела, гостеприимна хозяйка, весело всем. За веселую, за приветливую идут бои между комбайнерами. За хороших хозяек спорят с колхозом.
Начинает формироваться хорошая полевая должность — хозяйка.
И странно: в хозяйках нет ни одной пожилой женщины, сплошь девушки.
Недаром в Приволжье много раз слышал я поговорки: «Выбирай хозяйку не в спальной, а при комбайне», «Хозяйка в поле выясняется».
2В колхозе «Год великого перелома», под Хвалынском, видел я трех хозяек. Из них всех веселее показалась мне Нюра Козлова в бригаде Дуси Агафоновой. Хозяйство ее невелико: один вагончик, легкий обеденный стол перед ним под открытым небом, кипятильник — «кухня» на кирпичах и бочка с водою.
Но была хозяйка вагончика такой простой и приветливой, такой любительницей потчевать гостей медом и мастерицей веселиться, что, казалось, ее вагончик и чище, и богаче, и уютнее других. Она сама вносила столько домовитости, домашности в хозяйство, что казалась всем милой родственницей, нежной сестрой или доброй теткой.
В Красноярской МТС вагончик комбайнера стоит рядом с вагоном тракторной бригады, и две хозяйки превратили свое временное полевое становище в какой-то павильон чистоты и блеска. Вагоны стоят по бокам навеса-столовой. Дощатые стены столовой побелены, на стенах — полочки для посуды, в углу — побледневший от тонкого блеска самовар. Побелены и внутренние стены вагонов. Портреты вождей в рамах, убранных искусственными цветами, обильно украшают их. У лестницы вагона — сырая тряпка для ног. На столиках в вагонах — книги, гармонь, фикус. А сами хозяйки, глядя на мирную чистоту своего стана, моют мочалками скамьи и табуретки.
Это не стан, а дом.
Невдалеке работает мастер комбайновой уборки Пабст.
— Вы вот у него посмотрите на хозяек, — сказали мне. — Вот это невесты, это хозяйки!
Дело шло к вечеру, к ужину, когда показался стан Пабста. Здесь два вагона по бокам крытой столовой, — но какие вагоны! Во-первых, один был целиком женский, на четыре кровати; другой — исключительно мужской, на восемь душ. Во-вторых, чистота убранства была до того непередаваемой, что страшно было войти и коснуться пыльной рукой белоснежных, лихо отглаженных простынь, подкрахмаленных пододеяльников и прямо-таки театральных в своей нарядности подушек. Стены выбелены и еще подкрашены розовой краской, над постелями-койками нечто вроде ковриков, каждая койка за занавесью, а пол — пол такой мягкой, удивительной чистоты, что его можно коснуться щекою.
Одна из хозяек возилась у «кухни», вынесенной подальше от вагонов, другая катала тесто рядом со столовой. Она была в фартуке, и ее обнаженные сильные руки ловко и красиво работали с тестом.
На ужин готовились кнели, нечто вроде сваренных в кипящем масле пышек, и домовитый запах масла и теста стоял над полевым станом.
Хозяйство было великолепно и, вынесенное на люди, на обозрение всего мира, как-то особо влекло к себе. Тут было уютно жить и работать. Это был прочный дом, гордый собою, уважающий себя.
В тот же вечер, часом позже, пришлось увидеть мне стан, где хозяйкой Софья. Было уже поздно. Давно готовый ужин ожидал бригаду, еще работающую на дальнем краю загона, и хозяйка, сидя в столовой, задумчиво играла на балалайке.
У нее тоже два вагона, но столовая — не навес, а вполне серьезное сооружение с дверью, заполненное добром, как иная хорошая изба.
Во-первых, тут стоял шикарный ларь, обитый железом; во-вторых, полочки на стенах были не только побелены, но еще и убраны искусно вырезанной бумагой; над дверями и окнами столовой и вагонов повешены белоснежные занавески, а земляной пол столовой и земля перед вагоном посыпаны тонким желтым песком.
Цветы, книги, два зеркала, расшитые какие-то штуки на стенах, репродукции персидских миниатюр и десятки мелочных вещей кухонно-домашнего обихода, привезенных сюда как бы в расчете на долгие годы ничем не тревожимой жизни.
Но, кажется, только еще сегодня перебралась Софья на новое место, а дня через три-четыре снова перекочует вслед за своим комбайном, соберет, уложит и еще раз или два развернет в чистейшем блеске свое удивительное и радостное хозяйство.
А по степи шел ветер в те дни, и было пыльно и жарко.
Но пыль как бы миновала стан Софьи и ни в какой мере не касалась его.
— Ну как же тут народ спит? Ведь с комбайна приходят пыльные, в масле, тут ведь никак не убережешься.
— Э-э, да ведь она не пускает так просто в вагон. Пока не вымоешься, не сменишь одежды — не пустит, строже любой старухи!
А между тем была Софья безусловно веселым и сердечным человеком, добрее доброго, и строгость ее шла не от характера души, а от характера дела, которому сама она придавала особую торжественность.
Как удалось выяснить, ни одна из девушек — полевых хозяек — никогда не вела в своей обычной домашней жизни столь сложного и трудоемкого хозяйства, а то маленькое, что было у них дома, никогда не доводилось до такой праздничной высоты.
— А почему так? — спросил я.
— Тут весело, вот почему, тут почет есть. Все могут видеть, какая она ловкая, быстрая, чистая, изобретательная.
— Еще и потому, — подсказал другой, — что тут она сама себе голова — как думает о жизни, так и хозяйничает!
Пожалуй, это было самое верное: как думает о жизни, так и хозяйничает.
И какой могучий и смелый организатор общественной жизни растет в такой кухарке, красиво думающей о быте!
1937
Путь от Тулы к местам Куликовской битвы, в Куркинский район, однообразен, но в чертах этой однообразности есть много чудесного очарования. Невысокие косогоры, заросшие лесом, овражки, петля студеной реки Уперчи и стройные, четкие оазисы товарковских угольных шахт, окруженные квадратами, должно быть искусственно насажденных, лесов.
Поля, кругом поля. Хлеб убран. Жнивье блестит горячим желтым блеском, и черны, свеже черны пространства (не скажешь — ни пашни, ни участки!), — пространства, засеянные озимью.
Ночь, но на дорогах людно. Обозы доставляют на тока последний хлеб, везут солому, забрасывают горючее для осенних работ. Впереди Куликово поле — место исторической русской битвы, более великой, чем поражение гуннов Атиллы на Каталаунских полях.
8 сентября 1380 года по старому стилю на сырой, болотистой Куликовой поляне, окруженной стеною древних лесов, между реками Непрядвой на северо-западе и Доном на востоке и северо-востоке, встретились русские с войсками Золотой орды.
Ополчения русских земель прибыли к месту встречи. Серпуховские, белозерские, тарусские, каргопольские, ростовские, елецкие, московские, псковские полки насчитывали более полутораста тысяч. Во главе их шли лучшие военачальники — сам Дмитрий Иванович Донской, великий князь Московский, Владимир — князь Серпуховской, два брата — князья Белозерские, боярин Бренок, воевода Боброк-Волынский. Русь выставляла всю свою мощь и славу. Татар, в числе тысяч четырехсот, вел опытный, испытанный в боях полководец Мамай.
От летописцев дошло, что накануне боя стояла тихая и теплая ночь. Вообразить ее, глядя на теперешние места сечи, уже невозможно: все — другое.