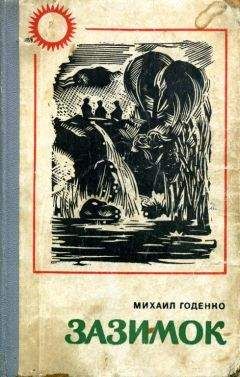— Прошу пробачення, ботиночками, ботиночками!
Микита приподнялся на руках, хотел еще чем-то донять, да не успел: закололо в пояснице. Поморщился, боднул лбом подушку, пробубнил:
— Ух, идол, як иголкой пырнуло!
— Чтоб не брехал.
Микита вскидывает голову.
— Полтора года возле орудия крутился. До Кралова-градца дошел. Еще бы пять минут — и в Праге побывал! Понял? Топал от самого Мелитополя…
Я на время отвлекся. Слышу, Микиткина зенитка уже катится по Прикарпатью. От Львова на Дрогобыч тащит ее ЗИС. Помните, были такие трехтонки? Выносливые, говорят, черти. Из любого болота выскочат, по любым ухабам пронесутся. Ну вот, идет «зисуха» в орудийной упряжке. Лейтенант в кабине, расчет в кузове. Катится без горя, без помех. И вдруг — стоп! Слезай — приехали. И кто остановил? Добро бы противник. А то нет, свой брат, колхозник. Стоп, и все! Лейтенант выскочил:
— В чем дело?
— Прошу пана, не гневайтесь. Почекайте хвилинку!
Просят, значит, немножко подождать. Потому что на шоссе, на асфальтовом его полотне, колхоз устроил ток, молотьбу затеял, лен молотят! Умно́ придумали. Расстилают лен. Пропускают по нему проезжие машины. Резиновые колеса мнут лен, вымолачивают семя. Затем — стоп, машины! Кладут поперек дороги бревно: ход закрыт. Ворошат лен вилами, перетряхивают граблями. И снова — пошли колеса! Когда лен обмолочен, дорогу на какое-то время перекрывают наглухо. Кострицу убирают. Семя подметают и в мешки. С арб летят на асфальт новые снопы. Вот так и молотят. Не надо ни специального тока, ни катков, ни лишних лошадей. Все делают проезжие машины. Дешево и сердито! Кому невтерпеж — вон объезд, и справа и слева. Поспешай на здоровье! Ну, а зенитчики народ веселый, и торопиться как раз не надо. Спрыгнули с машин. Вилы в руки и давай подсоблять. Тетки обрадовались.
— Прошу, пане, прошу!
Некоторые подносят в подолах фрукты.
— Ось покушайте, пане, грушо́к!
— Попробуйте моих сливо́к, пане! Дуже добри! А где ж ваша пани? Чому не приехала з вами? Вот бы сливо́к солодких наелась!
— По коням!
Лейтенант подает команду. Сам-он тоже молодой вояка, и по летам и по опыту. Без году неделя как на войне.
Микиту удивила молотьба. Правду сказано: голь на выдумки хитра. Но молодцы. Не пропадать же выращенному ленку. Поздновато, конечно, осень на дворе, но что поделаешь — война задержала.
Стояли потом в небольшом селе неподалеку от Коломыи. Еще и сами не знали, куда двинуться дальше. То ли на Косов, то ли на Рахов. Темнота в горах приходит сразу, неожиданно. Только солнце село — она и навалилась. После ужина лейтенант расставил посты. Сам подался в темноту. Заприметил дивчину, что за ручьем проживает. Вот и стал к ней наведываться. Через ручей мосток переброшен. За мостком каменистая стежка ведет в гору. По сторонам стога сена, высокие, словно вставшие на задние лапы медведи. По крутым огородам фасоль поднимается, пышно обвивая колья. Колья поставлены ровными рядами. Посмотришь в темноте, кажется, взвод солдат застыл на месте. Дорога лейтенанту знакома. Не первый вечер к верхнему домишку пробирается.
В тот вечер лейтенанту пришлось карабкаться еще выше. На самом бугре есть полянка. На полянке — загон, огороженный участок. Там до снегу пасется корова. У нее и корма и воды вдосталь. Корм под ногами, куда ни повернись — сочная трава. Вода в долбленном из бревна корыте. Стоит корыто у камня, по которому скатывается ручеек. Скатывается прямо в корыто. Многие так держат скот на полянах. Удобно, и особых хлопот не требуется. Подоил вовремя — и вся печаль.
Лейтенанту сказали, что дивчина там.
— Пишла до коровы.
Больше его в живых не видели. Как все получилось, никто рассказать не может. Не знают, не слышали. Ни выстрел не прогремел, ни сучок не треснул. Можно догадаться, рубанули в затылок барткой — топориком на длинном черенке.
Микита не мог прийти в себя. Думалось: «Если бы просто убили — понятно. Посчитали бы: приревновал кто, отомстил. А то ж посекли на кусочки, приволокли в мешке к порогу хаты, где квартировал. Каким надо быть нелюдем, чтобы сотворить подобное!..»
Карпаты, Карпаты, зеленые горы!
На обратном пути из Чехословакии стояли в Воловце́ — станция такая на железной дороге. Это по южную сторону хребта, не доезжая до туннелей. Думали в Мукачеве остановиться. Получилось, до Воловца проехали. Только бугор с крепостью в окно увидели — вот тебе и все Мукачево. Но и в Воловце, дай бог, тоже повеселились славяне. Самую победу в Кралове-градце встретили. А тут догуливали. Только кому гулянье, кому морока. Впервые Микита пожалел, что дударем сказался. Ни дня, ни ночи. Затаскали! Не успеешь вернуться в часть, как опять сбор играют, снова подают машину. Везут то к лесорубам, то к чабанам, то еще к кому. Что поделаешь? Назвался дударем — полезай в кузов!
Вся война у Микиты прошла так: днем с пушкой, вечером с «дудкой». Самодеятельный оркестр подобрался — всем другим частям на зависть. Никаких ансамблей не надо. Так «дудели», что любо послушать. Даже в Брно ездили, на центральном плацу музыку давали.
Как-то свободный денек выдался. Пошел Микита вдоль линии к станции, которая и есть Воловец. Ну, станция как станция. Кирпичное здание, каких и в Чехословакии много, и тут, в Закарпатье, хватает. Станция расположена в низине, стиснута с обеих сторон буграми — с запада и с востока. У здания — высокие тополя, светло-зеленые ясени. Вроде ничего приметного, ничего особенного. Но вот заметил поодаль огромные кучи странно белого угля. Глазам своим не верит. Ну, антрацит, и все, только кристаллически прозрачный. Глыбы поблескивают, от них даже сияние исходит. Приступился поближе, взял в руки светло-зернистый камень, лизнул языком: соль! «Ты глянь, откуда она? Не иначе, где-то в горах соляные копи». И еще удивление. Чуть наискосок стоит солдат. Тоже пробует камень на язык. Прячет в карман. Гимнастерка до белизны выгорела, пилотка тоже белая, вареником на лоб посажена. Кожа на голове ходит так, что, кажется пилотка вот-вот упадет на землю.
— Юхим?!
Солдат осмотрелся, прогудел тихим басом:
— Як бачишь.
— Ты где?
— Тут! — Юхим кивнул в сторону летних вагонов: пол да крыша на подпорках, да еще скамьи — и весь уют.
— Воевал?
— Пришлось.
— Как же тебя в армию взяли? Ты ж вроде немцам служил? И уходил с ними?
— Отслужил свое. Ось бачишь! — тряхнул медалями. — Шо було, то прошло! — Заторопился. — Прощай! Все списано. Гата! Понял? Никто никому не должен. — Побежал в сторону открытых вагонов…
…Микита подтолкал под себя подушку. Подпер щеку ладонью.
— Землячка повстречал.
Я тут как тут со своим вопросом:
— Сказал кому?
— Не.
— Почему?
Микита повысил голос.
— Кому сказать? Что сказать? Он ничего такого не сделал!
— Не такие ли твоего лейтенанта ухайдакали?
— Пустое балакаешь! Юхим смирный, что телок.
— Может, выбора не было. Приказали: или — или.
Костя прищуривает глаза на Микиту.
— Добряк парень, добряк!
Микита видит, что осаждает. Просит пощады:
— Что вы, хлопцы? Он же потом свое получил!
— Твоими молитвами!
Костину жинку зовут Ганной. Но старый Говяз называет невестку по-слободскому: Нюнька. Не дело, конечно, городскую женщину Нюнькой звать, но суперечить старому не стали: обидчивый, пойдет оглобли ломать, норов свой показывать. Что с ним приключилось на девятом десятке? Покладистый был мужик, смирный — хоть воду на нем вози. И вот тебе на! Муха укусила или время настало такое раздражительное? Наверно, время. Радио кричит, телевизор гудит, газеты предупреждают. Пойдешь в лавку, постоишь с мужиками — то же самое: про войну да про войну.
— Умереть не дадут спокойно, басурманы. То бомбой грозятся, то еще каким чертом. Понапридумывали разного, анафемы дети. Спалят живьем, и пикнуть не успеешь!
Когда-то до войны землемер выписывал газету «Вісті». Все ее экземпляры сохранил до сегодняшнего дня. Часто перечитывает пожелтевшие листы. Берет в руки газету, скажем, в полдень и сидит с ней до заката на каменном порожке, подбив под себя валенок. От буквы до буквы прочитает. Затем вторично прохаживается по полосам, любовно оглаживает, складывает бережно, прячет в ящик комода, запирает на ключик. К «Вістям» отношение особое. Газета Советов, газета самого Григория Ивановича! Всеукраинский староста был человеком добрым. Несправедливости не терпел. «Вісті» — как память о нем.
Говяз в свои восемьдесят с лишним лет без очков читает. Еще и посмеивается над невесткой, которая за швейную машинку садится в окулярах. Он поучает:
— Все потому, что народ мало фруктой интересуется. Сила в глазах только от нее. Особенно от груши.