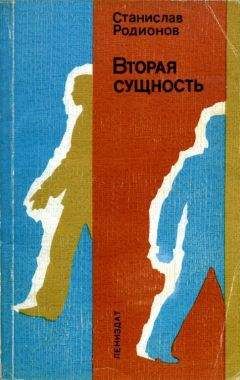Я глянул. Отметинку, правда, не нашел, но шея ее не крестьянская, не жилистая, а вроде бы как хорошо пропеченная — загаром вся пышет. И, как положено женской шее, не долго мешкая переходила она в грудь, которая тоже пышет, но уже не загаром, а силой приятной, — вроде бы как у нее под кофтой тесто подходило. Чувствую, что теряю я некоторую рассудочность и позабыл, зачем и пришел…
— Ой, Николай Фадеевич, лучше молочка топленого выпейте…
— Я к тому, что вы женщина женоподобная.
— Бывают мужчины, Николай Фадеевич, что отворотясь не насмотришься, а вы совсем наоборот.
— Доброе слово, Нюра Григорьевна, и черту приятно.
— Ой, лишенько…
— Я к тому, что наливка-то с задорцем.
— Собственноручная, из грыжовника. Ой, Николай Фадеевич, я про этот-то забыла… про десерт…
— Про кого?
— По-русски — компот из сухофруктов.
— Мне желательно из грыжовника.
— Ой, господи…
Ускользнула она за этим самым десертом, а меня как домкратом по голове шибануло. Ты зачем, лысый черт, пришел? Или это кровь разыгралась? Правильно говорится: седина в бороду, а бес в ребро.
— Замуж выходят по-разному, Нюра Григорьевна.
— Вы на что намекаете, Николай Фадеевич?
— Говорят, что у вас в деревне жен покупают.
— Вы про Федора и Наташку?
Попал в самое яблочко. Теперь бы мне баранку не упустить.
— Про них.
— Это не современный случай.
— За сколько купил-то? — спросил я, как бы не очень интересуясь.
— Две тыщи дал.
— Кому?
— Да ей же.
— Мать… что ж она сама себя продала?
— Тут, Николай Фадеевич, история, как в кинопанораме. Работала Наташка продавщицей в сельмаге. Душа она открытая, всем в долг отпускала. Грянула ревизия. Недостача две тыщи. Или плати, или под суд. А где ей денег взять, сиротине? Тут и Федька возник. Корову продал, с книжки снял и Наташке вручил. Правда, с оговоркой, чтобы шла за него замуж. Вот она и хочет слово свое сдержать. Получается, купил себе Федька красивую жену.
Вот оно как… Вот оно как… Язви его, не знаю кого! А Нюра мне стакан с десертом подсовывает, который хоть пей, хоть мимо лей.
Но до десерта из сухофруктов дело не дошло, поскольку дверь распахнулась, как от бури. Само собой, без стука. Паша стоял на пороге и походил свирепостью на местного быка Пионера. Мы с Нюрой Григорьевной приосанились: я поднял за хвост соленого леща, а она сделала вид, что моет посуду, для чего опустила стаканы в горшок с топленым молоком.
— Хахалем заделался? — дико спросил Паша.
— Не хахалем, а щи ем.
— А там тоже хахаль выискался. — Павел злорадно мотнул головой в сторону улицы.
— Как тебя понимать?
— На дереве сидит.
— Может, какой хахаль на дереве и сидит, а я, Паша, с одного грыжовника на высоту не полезу.
— Аист к твоей аистихе прилетел! — рявкнул он.
Из меня весь кураж мигом выдуло.
12
Метрах в пяти от гнезда сидел пришелец, новый аист, вылитый ее муженек, но вроде бы чуть покрупнее. Он, значит, к гнезду, а она заклекочет и на него ястребом. Пришелец отлетит, покружит и опять за свое — поближе к гнезду.
— Никак он яйца хочет сожрать? — спросил Паша.
— А вот я сейчас его каменюгой…
— Николай Фадеевич, нешто забыли, что она вдовая? — подала голос через заборчик Анна Григорьевна.
— Так вы думаете, он к ней насчет картошки дров пожарить? — догадался я.
— Определенно за этим.
— Чего ж она его шугает? — спросил я, поскольку были сомнения.
— Приглядывается, — объяснила Анна Григорьевна.
— Тут, Коля, можешь не сумлеваться. В этом вопросе она натуральный спец, — бросил Паша ей через заборчик.
— Сосед, ты мне нервы не щебечи, — озлилась Анна.
— Тогда пулять камнем обожду, — решил я.
В деревне чиха не утаишь, а тут прямо воздушный бой: он к гнезду, а она в атаку. И злой клекот стоит. Вот проходящий народ и начал любопытствовать. Спрашивают, а я отвечаю. К слову сказать, меня в деревне прозвали Аистом. Вон, мол, Аист идет.
Наташка-то Долишная улыбнулась мне через заборчик своими ямочками, но виновато, как украла чего. А ведь это я должен извиниться перед ней, или мы должны виноватиться перед ней всем скопом — и сам не знаю за что.
— Чего ж не заходишь? — спросил я.
— Стыдно…
— Отчего такое?
Не ответила, а покраснела, как девица. Она и была девица. Да ведь сам знаю, почему ей стыдно, — за Федьку, поскольку он машины для старухи пожалел. Слава богу, что Никитична отодубела — уже картошку с салом жует. А я радуюсь: хоть и не рентген, а в Наташке маху не дал. Кручинится она из-за старушки. Так и должно быть — внучка фронтовика.
— Как Федор поживает?
— Он тоже аистиные гнезда строит…
— Сколько уже соорудил?
— Штук восемь.
Ага, хозяйственный. Восемь на десять равняется сумма.
— Разумно, что пришла аистов глядеть. Они семейной жизни обучают.
Аистиха, я приметил, клюет его что надо — прямо грудью сшибает. А он, пришелец, от боя уклоняется. Отлетит, покружит и опять в сторонке сядет, но все норовит ближе к гнезду.
Тут я узрел молоденькую мамашу, катившую люльку вперед себя. Не деревенская, отдыхающая. В босоножках, зонтик сложенный в руке, в очках черных, как слепой инвалид. Дите в люльке сидит малое. И орет непонятные песни на заморских наречиях. Не дите, его и не слышно, а махонький приемничек, приспособленный в ножках. Вон как теперь. Это вместо сказочек, вместо песенок.
— Мамаша, куда же вы мимо? — крикнул я.
Она приостановилась и вскинула головку: мол, что такое?
— Посмотрите сами и дитю покажите семейную драму из жизни натуральных белых аистов.
Она пожала плечиками и поехала себе вперед, даже не подняв на тополь глаз. Какие там аисты, когда этот приемничек у нее вместо глаз и ушей. Днем она им проживет, а вечером телевизор врубит.
Люди подходили и уходили по своим делам. Аист-то решил взять не мытьем, так катаньем, то есть измором. Сел подальше и ждет своего часа.
А вокруг меня пацанье вьется:
— Дядь, откуда он прилетел?
— Думаю, из африканских стран.
— Почему к ней лезет?
— Насчет картошки… то есть хочет с ней познакомиться.
— Если его из ружья? — спросил сынок Ивана Федоты.
— А вы надумали, чего это звери к человеку тянутся? — спросил я, вертаясь к давешнему разговору.
— За едой, — ответил тот, в резиновых сапожках.
— Нет. Ему тоже жить охота по-человечески, поскольку живем мы интереснее.
— У нас телевизоры, — оказал мне поддержку сынок Ивана Федоты.
— И волк тянется? — с хитрецой спросил пацан в сапожках.
— Волк идет к нам не с добром, а насчет барашка.
— Дядь, они к нам с добром, а их зарежут и съедят. — Этот, в сапожках-то, оказался занозистым.
— Это кого зарежут?
— Барашка.
— Их не за добро режут, а за глупость. Неученые они, неграмотные. Так что учитесь, ребята…
Грыжовнику я накачался и бдительность утратил. А может, он того, язви его? Откуда тут взяться пришельцу без пары? Да это же профессорский с аистихой развелся и теперь бьет клинья к моей…
А может, он и верно за яйцами прилетел? Может, у них закон такой: как узнают, что мужа-то нет, так яйца и отбирают в свою пользу?
И только это я подумал о профессоре, как знакомая личность засветилась очками. Роба в земле, лицо в пыли, и обувь разная — на правой ботинок, на левой тапок. Как говорится, одна нога ходи, другая погоди.
— Аркадий Самсонович, это твой фрукт орудует?
— Отнюдь. Мой при жене.
— Не знаешь, как у них насчет вторичного замужества?
— Не компетентен, Николай Фадеевич.
Это понимай, что ни бельмеса не знает. А глаза красные и слезятся.
— Здоров ли, Аркадий Самсонович?
— Цветы распускаются, а я — этот, аллерген…
— Кто ты?
— Аллергатор или алленгатор…
— Ага, потому и плачешь крокодильими слезами.
— Да не аллигатор, а человек, который страдает аллергией. Запахи меня раздражают.
— Эх, профессор, а слова не придумать. Ты будешь аллергуша.
Говорю с ним, а самого свербит. Аистами балуюсь, баланду травлю, грыжовник употребляю… Это все проделывает моя первая сущность, которой надо удовлетворить свои материальные потребности. А вторая сущность — хоть душой ее обзови — мне не подвластна. Она и свербит, она и торопит.
— Аркадий Самсонович, деньжата есть?
— Сколько надо?
— Все.
— Как все?
— А у тебя их много?
— Восемьсот рублей, до осени рассчитал…
— Можешь ими пожертвовать?
— Решил корову приобрести?
Рассказал я всю подноготную. О купленной невесте. Слезливые глаза профессора, этого аллергуши, сразу высохли и загорелись готовностью.
— У меня-то, Аркадий Самсонович, всего триста рубликов, да Паша дает четыреста.