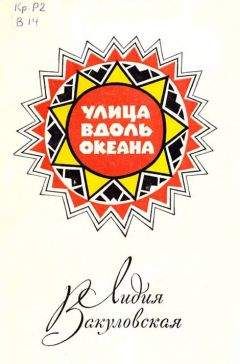— Старатели? — спросил он, беря из рук Киреева миску с дымящейся ухой.
— Они самые, — ответил Хомяков, пододвигая ему хлеб. — От самого вечера стараемся насчет ушицы, ведро хариуса расстарались.
— Выходит, есть рыбка?
— А чего ж не быть, когда мы здесь второй день? — усмехнулся Хомяков, — Вот помоем месячишко, после — лови тину, рыбак.
— Да портит ваше золото реки, — сказал незнакомец, отхлебывая из ложки горячую уху. — И тайгу, и реку портит. Столько рощ прекрасных бульдозерами снесли.
Киреев с Хомяковым согласились: что портит, то портит, но ничего не поделаешь, мыть-то надо.
Все стали есть уху. Киреев спросил у незнакомца, кто он и куда идет. Тот ответил, что зоотехник и идет в оленеводческую бригаду, километров сорок прошел, и еще, шагать не меньше. А Киреев стал рассказывать, что у них, на приборе авария: лопнула труба, и бульдозерист потопал пешком на стан, чтоб привезли сварочный аппарат, поэтому они и загорают у костра.
Ваня в разговоре не участвовал; к нему не обращались, ни о чем не спрашивали. Он ел себе уху и слушал. На его долю вообще больше выпадало слушать: в школе — учителей, дома — мать, здесь, в артели, куда отец взял его с собой на летние каникулы, тоже больше приходилось слушать старших. Хотя кончил он шесть классов, хотя и бульдозер научился водить, и золото умел отбить с решеток не хуже других, но его все еще считали мальчишкой и обращались как с ребенком. Исключая, может, Хомякова. Но Хомяков был как бы родным своим человеком. Сколько Ваня помнил, их семья всегда жила в соседях с Хомяковым. Он был давний друг отца и много лет вместе с отцом промышлял в старательских артелях золото.
Ваня ел и слушал, как отец рассказывал про аварию на приборе. Не спеша рассказывал: отхлебнет из ложки, прожует, проглотит, потом скажет несколько слов. Опять поднесет ко рту ложку, проглотит, еще скажет.
Отец у Вани был человек спокойного, ровного характера и, как говорил Хомяков, «во всех смыслах положительный». «Ты с отца пример бери, — не раз поучал он Ваню. — Он во всех смыслах положительный, правильный во всех смыслах». — «А в каких смыслах», — усмехнулся Ваня, нажимая на эти самые «смысла». «Ну, во всем жизненном направлении, — пояснял Хомяков, — А я вот, к примеру, неправильный, на меня равняться нельзя».
Хомяков запивал, знал за собой этот грех и в трезвом состоянии осуждал его. В промывочный сезон он держал себя строго, зато уж зимой отводил душу: отмечал без пропуска все до единого праздники, новые и старые. Новый год у него растягивался с 31 декабря по 14 января, включая рождество, затем следовал разгром немцев под Сталинградом, потом День Советской Армии, 8 Марта, пасха, Первое мая… Ванина мать не любила его за это и не раз, напустив на себя строгость, выговаривала ему за баян и пляски, что, бывало, неделями не стихали за стеной. Хомяков никогда не обижался, а, смеясь, говорил матери: «Варюшка, от тебя ли я все это слышу? Ну, скажи по совести: кабы не я, разве бы женился на тебе Киреев? Он два года признаться не смел. Помнишь, как я сватом ходил к тебе, в тот барак, где девчонки вербованные жили? Я в барак, а Петюня — от барака ходу. Помнишь, я его поймал и привел?» Тогда мать тоже улыбалась, отвечала ему: «Спасибо, Степа, что осчастливил. Но что, если бы другая с этими четырьмя гавриками крутилась? Вот бы я царевной жила?» — «Не смей, Варюшка, не смей, — серьезно говорил Хомяков, — Дети — цветы нашей жизни. Каждый человек род продолжать обязан».
Случалось, что Хомяков, будучи навеселе, и Ване втолковывал нечто подобное:
— Ты, Ванюха, в одном на отца не походи: по части стеснительности, а то в холостых задержишься. А кто за тебя киреевский род продолжит? У Вас три пигалицы растут. Они не продолжательницы, ибо род от мужчины идет. Есть у вас в классе девчонки симпатичные?
— Больно они нужны, — краснел и супился Ваня. Хомяков смеялся и говорил Ваниному отцу, что сынок весь в папашу: при слове «девчонки» буреет, как дикая малина в лесу. Ванин отец отмахивался от него и просил не заводить глупые речи.
Сейчас Хомяков расправлялся с рыбой, оставшейся в миске после выхлебанной юшки, и помогал Ваниному отцу в разговоре. Интересно у них выходило: как только отец умолкнет, подает голос Хомяков. Как бы паузу заполняет. Получался беспрерывный рассказ. И все о той же поломке.
— Вторая смена коту под хвост летит. — Это Ванин отец.
— Прошлую ночь колоду латали. — Это Хомяков.
Отец прожевал, проглотил — и опять:
— Был бы автоген — в два счета подварили бы. А так шлепай за ним черт-те куда.
Хомяков продолжает:
— Еще вопрос, как Фомича поднять.
Отец поясняет:
— У нас шофер, Фомич. Если заснул, хоть над ухом стреляй, — трупом лежит.
Хомяков проглотил кусок рыбы и добавляет:
— Ценный человек во всех смыслах.
Отец не соглашается:
— Не ценный, а проворотливый.
Хомяков не спорит:
— И я о том же. При нашем Фомиче председателя артели не надо. Он черта с чертенятами из пекла достанет. Помнишь, с бульдозером?
— Как не помнить? — улыбается отец.
Ваня понимал, почему отец с Хомяковым так разговорились. Обрадовались новому человеку. Не будь его, поели бы молча и спали возле костра, пока не придет машина. Теперь же, пока не придет машина, будут говорить и говорить. Чего доброго еще и про бульдозер разболтают. Ну вот, так и есть.
— По сей день не пойму, как он разнюхал, — сказал отец.
— Разнюхать — полдела, — ответил Хомяков. — Ты скажи, как он его пригнал. Фокус в том, что пригнал.
Ваня поднял чайник, собираясь пристроить его на пламеневшие угли, но чайник оказался легким. В другом чайнике тоже не было воды. Он взял оба чайника и пошел к ручью. Слушать историю с бульдозером было неинтересно. Он слышал ее сто раз: как одни «олухи» оставили в тайге без присмотра новенький бульдозер, как Фомич обнаружил его и пригнал в артель; как перекрасили бульдозер и поставили на него старую кабину, и как бульдозер пригодился старателям. Правда, отец приказывал Ване никому чужому об этом не проговориться, и теперь Ваня не понимал, зачем же они сами выдают зоотехнику тайну.
Едва он отошел от костра, как его обступила темнота. Луны не было. Звезды, рассыпанные перламутровыми пуговками далеко-далеко вверху, не проливали света. Но так казалось в первые минуты. Потом очертились деревья и кустарники, а на небе вырисовался, точно проявился на пленке, контур горбатой сопки. Спустившись в ложбину, Ваня уже неплохо различал приклоненную к ручью понуру и стоявший неподалеку от нее бульдозер с задранным ножом. В узкой ложбине гудело и высвистывало, как в трубе. Ветер толкал Ваню в спину, и он не шел, а бежал, бренча чайниками, к темнеющей впереди старой лиственнице.
Когда Ваня вернулся в затишье деревьев, костер бушевал не так резво, как прежде. Отец с Хомяковым по-прежнему говорили в два голоса. Но теперь о другом — о заработках в артели. Наверно, зоотехник интересовался. Он разулся, сушил над жаркими углями портянки и слушал. Отец с Хомяковым курили. Выпустив изо рта дым, отец сказал:
— А если разобраться, то старатель не больше приискового получает. Старатель полгода моет — зиму в отгуле. Раскинь на двенадцать месяцев, то на то и выйдет.
Отец умолк, затянулся папиросой, а Хомяков как раз выдохнул дым и продолжил:
— Еще у старателя натура такая, во всех смыслах прихвастнуть любит. Его водкой не пои — дай похвалиться. Петюня, ты Тишкина помнишь?
Отец тухнул дымом:
— Кто Тишкина не помнит? Артист первой категории. Такую туфту загнет — ни один писатель не придумает.
Теперь Хомяков выдохнул дым:
— Он года три по допуску мыл, один с лотком по распадкам бегал. За три года на штаны не заработал. А встретишь Тишкина: «Паша, как дела?» — «Хо-хо! — хлопает себя по карману. — Вот они, десять тыщонок новенькими. Во Францию туристом еду, оттуда в Болгарию махну». Другой раз встретишь: «Паша, как Франция?» — «Порядок, — говорит, визу оформляю. Но тут, понимаешь, в Америку путевка подворачивается. Думаю на транскорабле по волнам прокатить. Деньги-то навалом!» И катит наш Тишкин из Франции в Америку — по ключикам с лотком.
Про Тишкина Ваня тоже слышал, даже видел в прошлом году Тишкина, когда тот приходил к отцу одолжить денег. И был совсем не такой шутник, не такой артист, каким его сейчас выставляли. О Франции и Америке не вспоминал, а поговорил тихонько с отцом и ушел. Потом приходил возвращать, долг, и опять никаких шуток Ваня от него не слышал. Тишкин пообедал вместе с ними, поблагодарил и распрощался.
Ваня разровнял палкой фиолетово-розовые уголья, поставил на жар чайник.
— Прибавь огоньку, — сказал ему отец.
Ваня подтянул к костру толстую бескорую лесину, направил ее одним концом в притухающий огонь. Пристроил поперек нее еще одно усохшее дерево, стараясь не задеть чайник. Пламя сразу охватило голые стволы, затрещало, выкинуло высокие хвосты искр.